социологическое исследование
Особенности структуры и содержания социальных представлений
о политических репрессиях
о политических репрессиях
Зотова О.Ю. Гуманитарный университет, г. Екатеринбург
Аннотация
Показано, что социальные представления об истории собственного народа определяют социальную идентичность народа, связаны с поведением членов группы и являются основой норм и ценностей всего общества. Рассмотрены факторы, оказывающие влияние на социальные представления исторических событий, описаны виды социальных представлений о коллективном насилии и войне. Социальные представления о политических репрессиях, распространенные в обществе, влияют на способ поступления входящей информации, которая становится призмой, посредством которой члены общества воспринимают реальность.
Исследование посвящено анализу представлений о политических репрессиях 30-х годов. В качестве методологической основы исследования выступил структурный подход Ж.-К. Абрика. Методами сбора эмпирического материала выступил метод свободных словесных ассоциаций, метод семантического дифференциала (В.Ф. Петренко). Полученные результаты были обработаны с использованием прототипического анализа (по П. Вержесу), эмоционального индексирования ассоциаций (по Е.Е.Прониной), частотного и контент-анализа, метода семантических универсалий, факторного анализа с использованием SPSS 20.0.
В итоге описаны ядро и периферия представлений о репрессиях, выделены обобщенные понятийные категории, синтезирующие структурные элементы представлений. В ходе исследования было выявлено, что представления о репрессиях являются устойчивыми, согласованными и связаны с крайне негативными эмоциональными переживаниями. Структура представления различна у представителей разных поколений, у мужчин и женщин. В ходе исследования изучена специфика образа жертв репрессий у респондентов. Установлено, что респонденты воспринимают жертв репрессий как сложный, протяженный во времени феномен, по своей природе представляющий собой результат действия внешних обстоятельств, при этом сами жертвы репрессий оцениваются нейтрально с точки зрения их безопасности/опасности.
Исследование посвящено анализу представлений о политических репрессиях 30-х годов. В качестве методологической основы исследования выступил структурный подход Ж.-К. Абрика. Методами сбора эмпирического материала выступил метод свободных словесных ассоциаций, метод семантического дифференциала (В.Ф. Петренко). Полученные результаты были обработаны с использованием прототипического анализа (по П. Вержесу), эмоционального индексирования ассоциаций (по Е.Е.Прониной), частотного и контент-анализа, метода семантических универсалий, факторного анализа с использованием SPSS 20.0.
В итоге описаны ядро и периферия представлений о репрессиях, выделены обобщенные понятийные категории, синтезирующие структурные элементы представлений. В ходе исследования было выявлено, что представления о репрессиях являются устойчивыми, согласованными и связаны с крайне негативными эмоциональными переживаниями. Структура представления различна у представителей разных поколений, у мужчин и женщин. В ходе исследования изучена специфика образа жертв репрессий у респондентов. Установлено, что респонденты воспринимают жертв репрессий как сложный, протяженный во времени феномен, по своей природе представляющий собой результат действия внешних обстоятельств, при этом сами жертвы репрессий оцениваются нейтрально с точки зрения их безопасности/опасности.
Ключевые слова
Представления; структура представлений; ядро и периферия представления; представления о репрессиях.
Социальные представления представляют собой «сеть» идей, метафор и образов и включают в себя эмоции, отношения и суждения [64, p. 153]. Социальные представления не должны рассматриваться как логические и последовательные мыслительные модели. Вместо этого они могут быть полны противоречивых идей. Социальные представления относятся к познаниям, запечатлевающим коллективное мышление общества. Как заявляет Серж Московичи, социальные представления каждый раз участвуют в глобальном видении, которое общество определяет для себя, и действуют на уровнях группы и общества [64, p. 160]. Социальные представления являются не только социально разделенными мыслями, но и результатом группового обсуждения, представляя собой инструменты для обозначения и категоризации повседневных интересов группы, тем самым облегчая ориентацию в окружающем мире, а также общение между членами группы [60].
Мартин Бауэр и Джордж Гаскелл подчеркивают, что процесс формирования социальных представлений должен быть представлен во временном контексте. Новые социальные представления привязаны к более старым [12]. Таким образом, социальные представления всегда имеют историю, и поскольку существующие концепции используются, в свою очередь, для закрепления новых событий, у этих представлений также есть будущее. Поэтому, социальные представления являются объектами перемен. По мере создания новых социальных представлений более старые могут потерять свое социальное значение и погрузиться в небытие. Дарио Пайез и его коллеги отмечают в контексте социальных представлений истории, коллективные воспоминания могут оказаться неактуальными и исчезнуть из обсуждения [72]. Однако, некоторые концепции могут стать настолько глубоко укорененными в сознании группы, что они становятся почти неотъемлемой частью мышления всего общества.
Социальные представления об истории собственного народа имеют важные последствия для социальной идентичности группы. Так, в работах Эммы Дрезлер-Хоук и Бертрана Доусье показано, что значимость положительных и отрицательных аспектов истории группы может повлиять на чувство коллективного стыда или чувство вины [27; 28]. Поэтому, подход к изучению влияния исторических событий на группу, с точки зрения социальных представлений, является не только уместным, но и наиболее эффективным с точки зрения интерпретации и установления причинно-следственных связей.
Социальные представления об истории содержат маркеры, которые обозначают героев и злодеев, создают роли, придают легитимность и предопределяют во многом действия политиков. Социальные представления являются ресурсами, которые могут быть использованы политическими лидерами для реализации политической повестки дня. Они также предоставляют собой набор правил, определяющих приемлемое и неприемлемое поведение одной группы в глазах другой.
История определяет траекторию идентификации личности. Представление группы об истории обусловливает во многом поведение членов группы и имеет центральное значение для идентичности, норм и ценностей. Представления людей о различных исторических событиях помогают определить социальную идентичность народа. Джеймс Лю и Дэнис Хилтон утверждают, что «представления о своей истории состоят в том, чтобы понять, что это было, есть и может быть, и поэтому являются центральным для построения тождества, норм и ценностей всего общества» [52, p. 537].
В современном мире у каждого человека существуют собственные представления об истории и значимых исторических событиях. Представления об исторических событиях каждого из нас строятся на основе прочитанных книжек, уроков истории, рассказов родителей, фильмов и т.д. Общие представления [63] способствуют эффективной коммуникации и координации поведения [48; 53], тогда как различия в социальных представлениях могут стать основанием для недопонимания и недоверия [39; 55].
Схожесть социальных представлений о различных исторических событиях вполне способны разрешать существующие конфликты и вызовы с точки зрения понимания и интерпретации того, что произошло [26; 52; 75]. Так, по мнению Бронислава Малиновски, история обеспечивает нас «основополагающими мифами», которые могут быть использованы для построения основы социального порядка в обществе [59].
Социальные представления дают возможность классификации и людей, и объектов окружающего мира, сравнения, оценки и объяснения их поведения [62; 63]. Когда разные группы людей представляют вещи одинаково, это не только обеспечивает основу для успешной коммуникации и координации действий, но и то, что разделяется, часто воспринимается как нечто само собой разумеющееся.
Чаще всего социальные представления об исторических событиях сосредоточены вокруг конфликтов. Так, Джеймс Лю в результате проведенного исследования выявил, что в общей сложности на политику и войну приходилось около 70% событий, названных как наиболее важными в мировой истории. В частности, Вторая мировая война была наиболее часто упоминаемым событием, а Гитлер был наиболее часто называемым ее персонажем [51]. Исследования Дж. Лю [50] показали, что социальные репрезентации истории имели свои особенности:
Мартин Бауэр и Джордж Гаскелл подчеркивают, что процесс формирования социальных представлений должен быть представлен во временном контексте. Новые социальные представления привязаны к более старым [12]. Таким образом, социальные представления всегда имеют историю, и поскольку существующие концепции используются, в свою очередь, для закрепления новых событий, у этих представлений также есть будущее. Поэтому, социальные представления являются объектами перемен. По мере создания новых социальных представлений более старые могут потерять свое социальное значение и погрузиться в небытие. Дарио Пайез и его коллеги отмечают в контексте социальных представлений истории, коллективные воспоминания могут оказаться неактуальными и исчезнуть из обсуждения [72]. Однако, некоторые концепции могут стать настолько глубоко укорененными в сознании группы, что они становятся почти неотъемлемой частью мышления всего общества.
Социальные представления об истории собственного народа имеют важные последствия для социальной идентичности группы. Так, в работах Эммы Дрезлер-Хоук и Бертрана Доусье показано, что значимость положительных и отрицательных аспектов истории группы может повлиять на чувство коллективного стыда или чувство вины [27; 28]. Поэтому, подход к изучению влияния исторических событий на группу, с точки зрения социальных представлений, является не только уместным, но и наиболее эффективным с точки зрения интерпретации и установления причинно-следственных связей.
Социальные представления об истории содержат маркеры, которые обозначают героев и злодеев, создают роли, придают легитимность и предопределяют во многом действия политиков. Социальные представления являются ресурсами, которые могут быть использованы политическими лидерами для реализации политической повестки дня. Они также предоставляют собой набор правил, определяющих приемлемое и неприемлемое поведение одной группы в глазах другой.
История определяет траекторию идентификации личности. Представление группы об истории обусловливает во многом поведение членов группы и имеет центральное значение для идентичности, норм и ценностей. Представления людей о различных исторических событиях помогают определить социальную идентичность народа. Джеймс Лю и Дэнис Хилтон утверждают, что «представления о своей истории состоят в том, чтобы понять, что это было, есть и может быть, и поэтому являются центральным для построения тождества, норм и ценностей всего общества» [52, p. 537].
В современном мире у каждого человека существуют собственные представления об истории и значимых исторических событиях. Представления об исторических событиях каждого из нас строятся на основе прочитанных книжек, уроков истории, рассказов родителей, фильмов и т.д. Общие представления [63] способствуют эффективной коммуникации и координации поведения [48; 53], тогда как различия в социальных представлениях могут стать основанием для недопонимания и недоверия [39; 55].
Схожесть социальных представлений о различных исторических событиях вполне способны разрешать существующие конфликты и вызовы с точки зрения понимания и интерпретации того, что произошло [26; 52; 75]. Так, по мнению Бронислава Малиновски, история обеспечивает нас «основополагающими мифами», которые могут быть использованы для построения основы социального порядка в обществе [59].
Социальные представления дают возможность классификации и людей, и объектов окружающего мира, сравнения, оценки и объяснения их поведения [62; 63]. Когда разные группы людей представляют вещи одинаково, это не только обеспечивает основу для успешной коммуникации и координации действий, но и то, что разделяется, часто воспринимается как нечто само собой разумеющееся.
Чаще всего социальные представления об исторических событиях сосредоточены вокруг конфликтов. Так, Джеймс Лю в результате проведенного исследования выявил, что в общей сложности на политику и войну приходилось около 70% событий, названных как наиболее важными в мировой истории. В частности, Вторая мировая война была наиболее часто упоминаемым событием, а Гитлер был наиболее часто называемым ее персонажем [51]. Исследования Дж. Лю [50] показали, что социальные репрезентации истории имели свои особенности:
1
в них доминируют события мировых войн и отдельные люди, оказавшие наибольшее влияние на ход мировой истории (например, Гитлер), которые воспринимаются однозначно отрицательно;
2
представления в большей степени евроцентричны (то есть представления касаются людей и событий, которые происходили в Европе);
3
большое внимание уделяется прогрессу науки и техники, который, возможно, является центральным для фактических движений истории [47].
Теорию социальных представлений можно рассматривать как альтернативный способ объяснения и интерпретации процессов приобретения знаний и обучения, который успешно применяется в исследованиях, требующие изучения культурных, социальных и психологических особенностей [42].
Можно выделить несколько значимых факторов, оказывающих влияние на социальные представления исторических событий:
Влияние степени давности событий.
По мнению Джеймса Пеннебейкера и его коллег, данные исследований коллективного запоминания показывают, что существует 50-летняя продолжительность критических исторических событий, после чего они подлежат пересмотру [75]. Это связано со старением и смертью населения, которые являлись непосредственными участниками событий, а также, с наслоением новых событий, имеющих важное политическое значение. Кроме того, различные авторы полагают, что три поколения является максимальным временем для сохранения исторических событий как ярких [18; 73; 75].
Гендерные различия в восприятии конфликтов.
По мнению Франа Норриса и его коллег, женщины, пережившие катастрофу, были более травмированы, чем мужчины [69]. В целом, женщины чаще, чем мужчины, признают психологические симптомы и рассказывают о них [68]. После катастрофы мужчины чаще всего подавляют негативные эмоции в основном из-за гендерных стереотипов (мужчины должны быть сильными) [93], реже проявляют невротические симптомы (например, депрессию и тревогу) [65]. Мужчины обычно справляются с экстремальными ситуациями самостоятельно, в то время как женщины используют общение и социальную поддержку как средство решения проблем [44; 88]. Сокращение социальной поддержки является более разрушительным фактором для женщин, чем для мужчин.
Возрастные особенности восприятия травматических событий.
Следует отметить, что опыт пережитой войны, является принципиально разным для детей и взрослых [46]. Дети пережили войну на разных этапах их познавательного, эмоционального и личностного развития, используя те или иные стратегии выживания. Например, психодинамическая теория развития указывает на то, что тяжелые недуги в детстве, в том числе потеря объектов привязанности, имеют патологические последствия [16; 67]. Ганс Кейлсон утверждал, что чем младше ребенок был в течение травматического периода, тем больший ущерб развитию личности был нанесен [45]. Следовательно, оставшиеся в живых дети должны быть в большей зоне риска, чем взрослые, оставшиеся в живых. Однако, существует и другая точка зрения. Альфред Кадушин предположил, что дети обладают большими способностями справляться с потенциально травматическими условиями, которые позволяют им преодолевать разрушительные влияния ранних трудностей развития [43]. Репрессии в отношении детей могут способствовать долговременной адаптации [84]. Дети имеют ограниченную способность обрабатывать опасные для жизни ситуации, и только в подростковом возрасте они становятся способными воспринимать свою уязвимость к потенциально опасным для жизни событиям [31; 84]. В связи с чем, и качество воспоминаний будет зависеть от того, в каком возрасте человек пережил катастрофу.
Восприятие ученых и непрофессионалов
Так, согласно теории Мориса Халбвакса, различия в социальных представлениях связаны с особенностями распределения памяти событий, основанных на социальной роли человека [32]. Профессиональные историки, как правило, выступают в качестве хранилищ коллективной памяти общества, тогда как студенты и школьники обязаны изучать то, чему учат их в учебном заведении.
Культурные различия в отношении одного и того же события.
Джеймс Верч утверждает, что нарративы представляют собой культурные инструменты, которые позволяют «схватить вместе множество распределенных во времени событий в интерпретируемые целые сюжетные линии» [92, с. 57]. Например, Вторая мировая война может рассматриваться как катастрофа для Германии и Японии, как «лучший момент» для Великобритании или как средство сбрасывания ярма колониального гнета в Сингапуре и Малайзии.
Влияние глобализации.
Благодаря глобализации, которая способствовала повышению мобильности населения (массовый туризм, миграция и т.д.), люди из разных культурных традиций становятся все более и более контактирующими друг с другом [91]. Отличия в мышлении, которые когда-то игнорировались, становятся все более заметными благодаря межкультурному контакту. Мало того, эти контакты могут стать еще одним источником проблем для социальных представлений исторических событий той или иной группы [25; 34] и могут быть оспорены представителем другой стороны.
Позитивный уклон.
Несмотря на то, что коллективные воспоминания как на национальном, так и на международном уровнях, чаще всего характеризуются войнами, само прошлое чаще всего не носит негативный характер. Так, по мнению Клея Рутледжа и его коллег, отрицательные вещи оцениваются как менее значимые [80]. Гульельмо Беллелли и Мирелла Аматулли утверждают, что к особенностям истории собственной группы относятся положительные воспоминания [15]. Ностальгия является одной из важных характеристик коллективной памяти и социальных представлений об истории. Ностальгия порождает положительный аффект [81] и негативную внегрупповую ориентацию [85]. Ностальгия также может способствовать ощущению непрерывности, что является важным элементом идентичности группы [86]. Таким образом, ностальгия поддерживает попытку коллективной памяти усилить сплоченность группы и ее историческую идентичность.
Социальные представления можно рассматривать как инструмент коллективной памяти, которые конструируются и трансформируются в зависимости от социальных характеристик общества, удовлетворенности потребности в безопасности, социальной идентичности и эмоционального фона. Коллективная память представляет собой последовательный и содержательный социально-сконструированный рассказ, который имеет определенную основу в реальных событиях [17; 33; 52], но предвзят, избирателен и искажен способами, которые отвечают нынешним потребностям общества. Следует отметить, что коллективная память обеспечивает черно-белое изображение, которое позволяет экономно, быстро, недвусмысленно и просто понимать историю. Коллективная память состоит из социальных убеждений, которые обеспечивают определенную доминирующую ориентацию на общество в настоящее время и на будущее [9].
Если речь идет о событиях прошлого, сопровождающихся негативными переживаниями и конфликтными ситуациями, то коллективная память, как правило, характеризуется следующими особенностями:
Можно выделить несколько значимых факторов, оказывающих влияние на социальные представления исторических событий:
Влияние степени давности событий.
По мнению Джеймса Пеннебейкера и его коллег, данные исследований коллективного запоминания показывают, что существует 50-летняя продолжительность критических исторических событий, после чего они подлежат пересмотру [75]. Это связано со старением и смертью населения, которые являлись непосредственными участниками событий, а также, с наслоением новых событий, имеющих важное политическое значение. Кроме того, различные авторы полагают, что три поколения является максимальным временем для сохранения исторических событий как ярких [18; 73; 75].
Гендерные различия в восприятии конфликтов.
По мнению Франа Норриса и его коллег, женщины, пережившие катастрофу, были более травмированы, чем мужчины [69]. В целом, женщины чаще, чем мужчины, признают психологические симптомы и рассказывают о них [68]. После катастрофы мужчины чаще всего подавляют негативные эмоции в основном из-за гендерных стереотипов (мужчины должны быть сильными) [93], реже проявляют невротические симптомы (например, депрессию и тревогу) [65]. Мужчины обычно справляются с экстремальными ситуациями самостоятельно, в то время как женщины используют общение и социальную поддержку как средство решения проблем [44; 88]. Сокращение социальной поддержки является более разрушительным фактором для женщин, чем для мужчин.
Возрастные особенности восприятия травматических событий.
Следует отметить, что опыт пережитой войны, является принципиально разным для детей и взрослых [46]. Дети пережили войну на разных этапах их познавательного, эмоционального и личностного развития, используя те или иные стратегии выживания. Например, психодинамическая теория развития указывает на то, что тяжелые недуги в детстве, в том числе потеря объектов привязанности, имеют патологические последствия [16; 67]. Ганс Кейлсон утверждал, что чем младше ребенок был в течение травматического периода, тем больший ущерб развитию личности был нанесен [45]. Следовательно, оставшиеся в живых дети должны быть в большей зоне риска, чем взрослые, оставшиеся в живых. Однако, существует и другая точка зрения. Альфред Кадушин предположил, что дети обладают большими способностями справляться с потенциально травматическими условиями, которые позволяют им преодолевать разрушительные влияния ранних трудностей развития [43]. Репрессии в отношении детей могут способствовать долговременной адаптации [84]. Дети имеют ограниченную способность обрабатывать опасные для жизни ситуации, и только в подростковом возрасте они становятся способными воспринимать свою уязвимость к потенциально опасным для жизни событиям [31; 84]. В связи с чем, и качество воспоминаний будет зависеть от того, в каком возрасте человек пережил катастрофу.
Восприятие ученых и непрофессионалов
Так, согласно теории Мориса Халбвакса, различия в социальных представлениях связаны с особенностями распределения памяти событий, основанных на социальной роли человека [32]. Профессиональные историки, как правило, выступают в качестве хранилищ коллективной памяти общества, тогда как студенты и школьники обязаны изучать то, чему учат их в учебном заведении.
Культурные различия в отношении одного и того же события.
Джеймс Верч утверждает, что нарративы представляют собой культурные инструменты, которые позволяют «схватить вместе множество распределенных во времени событий в интерпретируемые целые сюжетные линии» [92, с. 57]. Например, Вторая мировая война может рассматриваться как катастрофа для Германии и Японии, как «лучший момент» для Великобритании или как средство сбрасывания ярма колониального гнета в Сингапуре и Малайзии.
Влияние глобализации.
Благодаря глобализации, которая способствовала повышению мобильности населения (массовый туризм, миграция и т.д.), люди из разных культурных традиций становятся все более и более контактирующими друг с другом [91]. Отличия в мышлении, которые когда-то игнорировались, становятся все более заметными благодаря межкультурному контакту. Мало того, эти контакты могут стать еще одним источником проблем для социальных представлений исторических событий той или иной группы [25; 34] и могут быть оспорены представителем другой стороны.
Позитивный уклон.
Несмотря на то, что коллективные воспоминания как на национальном, так и на международном уровнях, чаще всего характеризуются войнами, само прошлое чаще всего не носит негативный характер. Так, по мнению Клея Рутледжа и его коллег, отрицательные вещи оцениваются как менее значимые [80]. Гульельмо Беллелли и Мирелла Аматулли утверждают, что к особенностям истории собственной группы относятся положительные воспоминания [15]. Ностальгия является одной из важных характеристик коллективной памяти и социальных представлений об истории. Ностальгия порождает положительный аффект [81] и негативную внегрупповую ориентацию [85]. Ностальгия также может способствовать ощущению непрерывности, что является важным элементом идентичности группы [86]. Таким образом, ностальгия поддерживает попытку коллективной памяти усилить сплоченность группы и ее историческую идентичность.
Социальные представления можно рассматривать как инструмент коллективной памяти, которые конструируются и трансформируются в зависимости от социальных характеристик общества, удовлетворенности потребности в безопасности, социальной идентичности и эмоционального фона. Коллективная память представляет собой последовательный и содержательный социально-сконструированный рассказ, который имеет определенную основу в реальных событиях [17; 33; 52], но предвзят, избирателен и искажен способами, которые отвечают нынешним потребностям общества. Следует отметить, что коллективная память обеспечивает черно-белое изображение, которое позволяет экономно, быстро, недвусмысленно и просто понимать историю. Коллективная память состоит из социальных убеждений, которые обеспечивают определенную доминирующую ориентацию на общество в настоящее время и на будущее [9].
Если речь идет о событиях прошлого, сопровождающихся негативными переживаниями и конфликтными ситуациями, то коллективная память, как правило, характеризуется следующими особенностями:
1
оправдывает вспышку конфликта и ход его развития;
2
представляет собственное общество в позитивном свете [14];
3
описывает соперничающее общество негативно [8, 70];
4
изображает собственное общество как жертву противника [10; 58; 90].
Таким образом, противоборствующие группы в конфликте часто будут принимать противоречивые и выборочные исторические коллективные воспоминания об одних и тех же событиях. Путем выборочного включения или исключения определенных исторических событий и процессов из коллективной памяти и позитивного позиционирования группы, группа рассматривает себя и свои исторические переживания уникальными и эксклюзивными способами [14].
В частности, на психологическом уровне наличие тех или иных социальных представлений влияют на способ поступления входящей информации, которая избирательно изучается, кодируется, интерпретируется и призывает к действию [11]. Она становится призмой, посредством которой члены общества воспринимают реальность, собирают новую информацию, истолковывают свой опыт, а затем принимают решения о том или ином действии.
Более того, со временем коллективная память и связанные с ней социальные представления служат основой для формирования социальной идентичности общества [6; 20; 71; 77; 94], становятся частью устойчивого политического, социального, культурного и образовательного контекста, в котором живут члены общества [77].
Воспоминания о прошлом тесно связаны с групповым членством. Каждая группа, будь то семья или нация, имеет свои собственные общие воспоминания. Концепции общего прошлого закрепляются в коллективной памяти [24]. Мрачное прошлое также может служить содержанием коллективной памяти. Несмотря на то, что прошлое, которое представлено документально-историческими документами, неизменно, воспоминания о нем и его интерпретации меняются. Жизнь всегда подвержена изменениям, как и ожидания от будущего. Чтобы справиться с этой ситуацией, группа может искать уверенность в своих решениях или в поиске выхода в трудных ситуациях из прошлого в коллективной памяти [32; 33]. Другими словами, представления о прошлом, содержание воспоминаний и их значение для настоящего постоянно обсуждаются на разных уровнях социальной среды [74].
Коллективная память характеризуется выборочным запоминанием и избирательным забыванием. Коллективная память служит важной функцией укрепления чувства сплоченности группы в настоящем. В социальной психологии этот поиск сплоченности был концептуализирован как социальная идентичность [87]. Социальная идентичность является динамическим феноменом, который включает постоянное стремление человека подтверждать членство в группе и положительное чувство единства. В свою очередь, социальная идентичность требует от членов группы принятия единых социальных представлений [37]. Именно по этой причине коллективная память концептуально находится на перекрестке социальной идентичности и социальных представлений [49; 72]. Другими словами, коллективная память относится к практике, в которой социальные представления об общем прошлом используются для построения и поддержания единства и групповой идентичности в настоящем и будущем. Кроме того, важным характером коллективной памяти является то, что она создает ощущение непрерывности группы с течением времени и историческую идентичность группы [5].
Классическая идея коллективной памяти [35] заключается в том, что социальные представления о прошлых исторических событиях обладают мотивационным эффектом, поскольку они побуждают группу действовать коллективно, оправдывая действия по отношению к другим группам [52] и закреплены в историческом опыте и культурных ценностях общества [73]. Экстремальные и негативные события, такие как войны, массовые репрессии, оказывают большее влияние на восприятие и познание человека [13].
Ключевым вопросом является не только то, какие преобладают представления об исторических событиях, но и какова их структура и содержание. Так, например, объяснение Второй мировой войны как справедливой и необходимой войны в истории с позитивными политическими и технологическими последствиями может способствовать усилению провоенного отношения, тогда как восприятие Второй мировой войны как социальной катастрофы связано не только с более негативной оценкой этого эпизода коллективного насилия, а также и с меньшей готовностью к новой войне. Если война играет одну из центральных ролей в социальных представлениях прошлого, то люди сталкиваются с когнитивной проблемой ее содержания и интерпретации. Так, одна из стратегий состоит в том, чтобы оправдать прошлое коллективное насилие, особенно действия одной группы по отношению к другой [52], в то время как другая стратегия – принять критическое отношение к применению силы, подчеркивая ее негативные последствия. Таким образом, от содержания социальных представлений зависит будущее той или иной группы.
Можно выделить два вида социальных представлений о коллективном насилии и войне:
В частности, на психологическом уровне наличие тех или иных социальных представлений влияют на способ поступления входящей информации, которая избирательно изучается, кодируется, интерпретируется и призывает к действию [11]. Она становится призмой, посредством которой члены общества воспринимают реальность, собирают новую информацию, истолковывают свой опыт, а затем принимают решения о том или ином действии.
Более того, со временем коллективная память и связанные с ней социальные представления служат основой для формирования социальной идентичности общества [6; 20; 71; 77; 94], становятся частью устойчивого политического, социального, культурного и образовательного контекста, в котором живут члены общества [77].
Воспоминания о прошлом тесно связаны с групповым членством. Каждая группа, будь то семья или нация, имеет свои собственные общие воспоминания. Концепции общего прошлого закрепляются в коллективной памяти [24]. Мрачное прошлое также может служить содержанием коллективной памяти. Несмотря на то, что прошлое, которое представлено документально-историческими документами, неизменно, воспоминания о нем и его интерпретации меняются. Жизнь всегда подвержена изменениям, как и ожидания от будущего. Чтобы справиться с этой ситуацией, группа может искать уверенность в своих решениях или в поиске выхода в трудных ситуациях из прошлого в коллективной памяти [32; 33]. Другими словами, представления о прошлом, содержание воспоминаний и их значение для настоящего постоянно обсуждаются на разных уровнях социальной среды [74].
Коллективная память характеризуется выборочным запоминанием и избирательным забыванием. Коллективная память служит важной функцией укрепления чувства сплоченности группы в настоящем. В социальной психологии этот поиск сплоченности был концептуализирован как социальная идентичность [87]. Социальная идентичность является динамическим феноменом, который включает постоянное стремление человека подтверждать членство в группе и положительное чувство единства. В свою очередь, социальная идентичность требует от членов группы принятия единых социальных представлений [37]. Именно по этой причине коллективная память концептуально находится на перекрестке социальной идентичности и социальных представлений [49; 72]. Другими словами, коллективная память относится к практике, в которой социальные представления об общем прошлом используются для построения и поддержания единства и групповой идентичности в настоящем и будущем. Кроме того, важным характером коллективной памяти является то, что она создает ощущение непрерывности группы с течением времени и историческую идентичность группы [5].
Классическая идея коллективной памяти [35] заключается в том, что социальные представления о прошлых исторических событиях обладают мотивационным эффектом, поскольку они побуждают группу действовать коллективно, оправдывая действия по отношению к другим группам [52] и закреплены в историческом опыте и культурных ценностях общества [73]. Экстремальные и негативные события, такие как войны, массовые репрессии, оказывают большее влияние на восприятие и познание человека [13].
Ключевым вопросом является не только то, какие преобладают представления об исторических событиях, но и какова их структура и содержание. Так, например, объяснение Второй мировой войны как справедливой и необходимой войны в истории с позитивными политическими и технологическими последствиями может способствовать усилению провоенного отношения, тогда как восприятие Второй мировой войны как социальной катастрофы связано не только с более негативной оценкой этого эпизода коллективного насилия, а также и с меньшей готовностью к новой войне. Если война играет одну из центральных ролей в социальных представлениях прошлого, то люди сталкиваются с когнитивной проблемой ее содержания и интерпретации. Так, одна из стратегий состоит в том, чтобы оправдать прошлое коллективное насилие, особенно действия одной группы по отношению к другой [52], в то время как другая стратегия – принять критическое отношение к применению силы, подчеркивая ее негативные последствия. Таким образом, от содержания социальных представлений зависит будущее той или иной группы.
Можно выделить два вида социальных представлений о коллективном насилии и войне:
1
Социальные представления, имеющие положительный оттенок – ориентированы на героев и мучеников
1
Социальные представления о войне, сосредоточенные на страданиях, жертвах, убийствах гражданских лиц и бессмысленности боевых действий [57].
Данные различия в представлениях могут быть связаны, прежде всего, с уровнем социального развития общества. Так, в условиях дефицита, общества, сосредоточенные на выживании, как правило, придают большее значение выносливости и конкуренции, усиливая позитивное отношение к коллективному насилию [23; 83], воспринимая социальные представления о прошлом политическом насилии как часть процесса выживания. Т.о. коллективное насилие – это цена исторического прогресса [36; 40]. В том же духе вера в «великих людей» или лидеров в качестве главных действующих лиц на арене истории могут быть связаны с акцентированием внимания на повиновении власти, которая одобряет и оправдывает применение силы [61]. Также, позитивный рассказ о коллективном насилии и войне может основываться на необходимости жертвования на благо нации [54].
В России сталинские репрессии – возможно, самое крупное преступление двадцатого века. Несмотря на свою масштабность, за пределами относительно небольшой группы активистов исторической памяти, репрессии сегодня редко являются вопросом общественного обсуждения.
Сталинские репрессии затронули семью практически каждого человека, рожденного в России в XX веке. В терроре и репрессиях с 1917 по 1956 год могло пострадать от 50 до 55 миллионов человек, в том числе те, кто был убит, сослан, подвергнут преследованиям, приговорен к рабскому труду, насильственно перемещен по всему Евразийскому континенту, а также их семьи, которые потеряли все права, были лишены своих домов и подверглись стигматизации как родители, супруги или дети врагов народа. В 1937 году, самый кровавый год режима, правительство ежедневно убивало в среднем 1000 своих граждан. Каждый пятый взрослый советский гражданин был жертвой.
Трагедии такого масштаба оказывают огромное травматическое воздействие на все общество. Причем последствия репрессий, их реверберации могут ощущаться на поколениях спустя многие десятилетия.
Между тем, некоторые недавние исследования психоаналитического эффекта сталинских чисток позволяют увидеть последствия этого молчания. Совместное российско-американское исследование, проведенное в начале 1990-х годов, показало, что скрытие травмы в предыдущих поколениях привело к снижению психологического и социального функционирования среди внуков. В частности, и самое поразительное, если выжившие члены семьи пытались подавить память о члене семьи, который пострадал от репрессий, следующие поколения имели более низкий уровень качества жизни (доминирование отрицательных эмоций, низкий уровень работоспособности, низкий уровень субъективного благополучия и т.д.). И, напротив, семьи, сохранившие память о пропавших, имели более высокий уровень функционирования. Авторы также обнаружили, что личные исследования в семейной истории и способность активно протестовать против политического принуждения были положительно связаны с высоким уровнем психологического благополучия [7]. Но в России этот импульс исследования своей истории, типичный для потомков трагедии 20-го века, отсутствует у большинства населения.
То, что память о травматических событиях может передаваться через поколения, также было продемонстрировано в недавних исследованиях, проведенных на потомках людей, переживших Холокост. Так, по мнению Александра Эткинда, второе и даже третье поколение после социальной катастрофы проявляют «ненормальное» психологическое здоровье [29]. Ари Надлер и Дэн Бен-Шушан исследовали влияние Холокоста на психологическое благополучие потомков людей, его переживших. Их результаты свидетельствуют о том, что последствия Холокоста были очевидны еще четыре десятилетия спустя. У детей и внуков было выявлено более низкое чувство самоконтроля, доминирования и самоуверенности, у них было больше трудностей в регулировании эмоций [66].
С другой стороны, экстремальные мучения не обязательно приводят к психологическим последствиям [57]. Результаты ряда исследований показали большую психологическую устойчивость у жертв геноцида [30; 79]. Многие выжившие успешно интегрировались в общество, активно реализуя себя как в семье, так и в профессиональной сфере. В некоторых аспектах адаптации люди, пережившие геноцид, демонстрировали большую эмоциональную устойчивость и силу в преодолении новых невзгод [76; 82].
Ронни Янофф-Бульман и Ирен Фризе предположили, что представления человека об окружающем мире деформируются после катастрофы. Человек спрашивает: «Почему я?» и ответ включает в себя изменение в чувстве неуязвимости, в предсказуемости, справедливости мира и собственной ценности [41]. Оставшиеся в живых жертвы Холокоста больше, чем члены групп сравнения, считают, что в мире существует справедливость, власть находится под контролем и что мир – хорошее место [22]. Кроме того, они больше верят в лучшее будущее [19] и испытывают чувство согласованности [15].
При изучении социальных представлений о прошлых исторических событиях, можно выявить и понять, почему коллективные воспоминания по-разному актуализируются в различных социальных группах, поддерживая их положительный образ, почему одни и те же события вспоминаются неодинаково [1].
В России сталинские репрессии – возможно, самое крупное преступление двадцатого века. Несмотря на свою масштабность, за пределами относительно небольшой группы активистов исторической памяти, репрессии сегодня редко являются вопросом общественного обсуждения.
Сталинские репрессии затронули семью практически каждого человека, рожденного в России в XX веке. В терроре и репрессиях с 1917 по 1956 год могло пострадать от 50 до 55 миллионов человек, в том числе те, кто был убит, сослан, подвергнут преследованиям, приговорен к рабскому труду, насильственно перемещен по всему Евразийскому континенту, а также их семьи, которые потеряли все права, были лишены своих домов и подверглись стигматизации как родители, супруги или дети врагов народа. В 1937 году, самый кровавый год режима, правительство ежедневно убивало в среднем 1000 своих граждан. Каждый пятый взрослый советский гражданин был жертвой.
Трагедии такого масштаба оказывают огромное травматическое воздействие на все общество. Причем последствия репрессий, их реверберации могут ощущаться на поколениях спустя многие десятилетия.
Между тем, некоторые недавние исследования психоаналитического эффекта сталинских чисток позволяют увидеть последствия этого молчания. Совместное российско-американское исследование, проведенное в начале 1990-х годов, показало, что скрытие травмы в предыдущих поколениях привело к снижению психологического и социального функционирования среди внуков. В частности, и самое поразительное, если выжившие члены семьи пытались подавить память о члене семьи, который пострадал от репрессий, следующие поколения имели более низкий уровень качества жизни (доминирование отрицательных эмоций, низкий уровень работоспособности, низкий уровень субъективного благополучия и т.д.). И, напротив, семьи, сохранившие память о пропавших, имели более высокий уровень функционирования. Авторы также обнаружили, что личные исследования в семейной истории и способность активно протестовать против политического принуждения были положительно связаны с высоким уровнем психологического благополучия [7]. Но в России этот импульс исследования своей истории, типичный для потомков трагедии 20-го века, отсутствует у большинства населения.
То, что память о травматических событиях может передаваться через поколения, также было продемонстрировано в недавних исследованиях, проведенных на потомках людей, переживших Холокост. Так, по мнению Александра Эткинда, второе и даже третье поколение после социальной катастрофы проявляют «ненормальное» психологическое здоровье [29]. Ари Надлер и Дэн Бен-Шушан исследовали влияние Холокоста на психологическое благополучие потомков людей, его переживших. Их результаты свидетельствуют о том, что последствия Холокоста были очевидны еще четыре десятилетия спустя. У детей и внуков было выявлено более низкое чувство самоконтроля, доминирования и самоуверенности, у них было больше трудностей в регулировании эмоций [66].
С другой стороны, экстремальные мучения не обязательно приводят к психологическим последствиям [57]. Результаты ряда исследований показали большую психологическую устойчивость у жертв геноцида [30; 79]. Многие выжившие успешно интегрировались в общество, активно реализуя себя как в семье, так и в профессиональной сфере. В некоторых аспектах адаптации люди, пережившие геноцид, демонстрировали большую эмоциональную устойчивость и силу в преодолении новых невзгод [76; 82].
Ронни Янофф-Бульман и Ирен Фризе предположили, что представления человека об окружающем мире деформируются после катастрофы. Человек спрашивает: «Почему я?» и ответ включает в себя изменение в чувстве неуязвимости, в предсказуемости, справедливости мира и собственной ценности [41]. Оставшиеся в живых жертвы Холокоста больше, чем члены групп сравнения, считают, что в мире существует справедливость, власть находится под контролем и что мир – хорошее место [22]. Кроме того, они больше верят в лучшее будущее [19] и испытывают чувство согласованности [15].
При изучении социальных представлений о прошлых исторических событиях, можно выявить и понять, почему коллективные воспоминания по-разному актуализируются в различных социальных группах, поддерживая их положительный образ, почему одни и те же события вспоминаются неодинаково [1].
Цель исследования
Выявить и проанализировать особенности структуры и содержания социальных представлений о политических репрессиях.
Задачи исследования
1
Выявить структуру поля социальных представлений о политических репрессиях;
2
Сопоставить содержание поля социальных представлений о политических репрессиях и эмоциональные оценки этого явления;
3
Выявить различия в структуре и содержании представлений о политических репрессиях у мужчин и женщин;
4
Определить особенности структуры и содержания представлений о политических репрессиях у представителей различных поколений;
5
Определить степень устойчивости и сформированности социальных представлений о политических репрессиях.
Задачи исследования
Методологической основой исследования выступил структурный подход Ж.-К. Абрика [4].
В качестве методов, позволяющих выявить представления, был выбран метод свободных словесных ассоциаций, метод семантического дифференциала (В.Ф. Петренко).
Обработка и анализ данных осуществлялись с использованием прототипического анализа (по П. Вержесу) [89], эмоционального индексирования ассоциаций (по Е.Е. Прониной) [3], частотного и контент-анализа, метода семантических универсалий, факторного анализа с использованием SPSS 20.0.
На первом этапе обработки данных были определены структурные элементы представлений о репрессиях. В последующий анализ были включены ассоциации, высказанные как минимум пятью процентами респондентов. На втором этапе с помощью контент-анализа были выделены обобщенные понятийные категории, синтезирующие ассоциации, включенные в структуру изучаемого представления.
Семантический дифференциал включал в себя следующие объекты: «Я»; «Жертва преступления», «Преступник», «Жертва репрессий», «Моя семья».
Всего в исследовании было опрошено 150 жителей г. Екатеринбурга и Свердловской области. Выборка была уравнена по полу.
Участвующие в исследовании возрастные группы представлены в соответствии с известной теорией поколений экономиста и демографа Нейла Хоува и историка Уильяма Штрауса [38], согласно которой в современном обществе одновременно сосуществуют шесть генераций. В проведенном исследовании были представлены 3 из них: поколение беби-бумеров (1943-1963) и поколения X (1964-1984), Y (1985-2000) (табл. 1).
В качестве методов, позволяющих выявить представления, был выбран метод свободных словесных ассоциаций, метод семантического дифференциала (В.Ф. Петренко).
Обработка и анализ данных осуществлялись с использованием прототипического анализа (по П. Вержесу) [89], эмоционального индексирования ассоциаций (по Е.Е. Прониной) [3], частотного и контент-анализа, метода семантических универсалий, факторного анализа с использованием SPSS 20.0.
На первом этапе обработки данных были определены структурные элементы представлений о репрессиях. В последующий анализ были включены ассоциации, высказанные как минимум пятью процентами респондентов. На втором этапе с помощью контент-анализа были выделены обобщенные понятийные категории, синтезирующие ассоциации, включенные в структуру изучаемого представления.
Семантический дифференциал включал в себя следующие объекты: «Я»; «Жертва преступления», «Преступник», «Жертва репрессий», «Моя семья».
Всего в исследовании было опрошено 150 жителей г. Екатеринбурга и Свердловской области. Выборка была уравнена по полу.
Участвующие в исследовании возрастные группы представлены в соответствии с известной теорией поколений экономиста и демографа Нейла Хоува и историка Уильяма Штрауса [38], согласно которой в современном обществе одновременно сосуществуют шесть генераций. В проведенном исследовании были представлены 3 из них: поколение беби-бумеров (1943-1963) и поколения X (1964-1984), Y (1985-2000) (табл. 1).
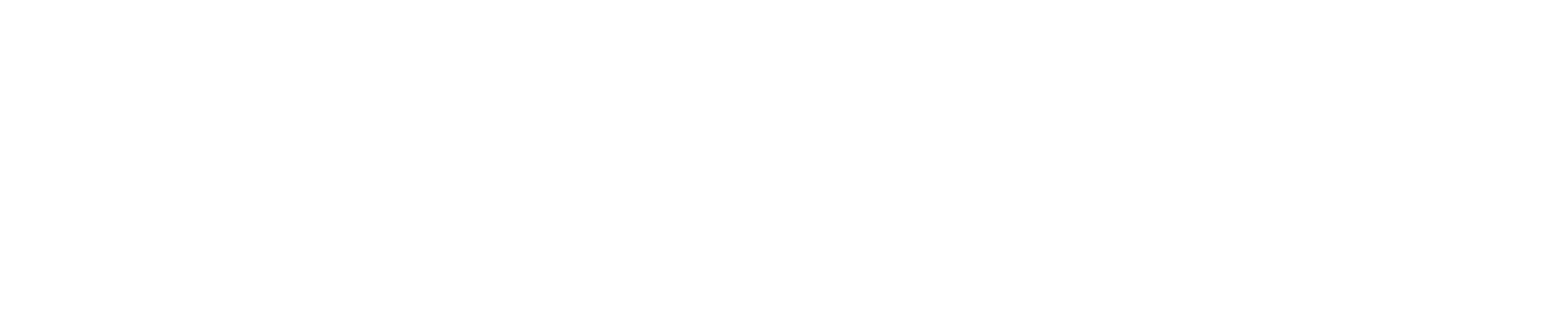
Распределение выборки по принадлежности к поколениям (Howe N., Strauss W.)
Данное деление на поколения соотносится с классификацией поколений М.И. Постниковой: «послевоенное поколение», «поколение эпохи «застоя», «поколение эпохи «перестройки». Критериями данной дифференциации поколений являются: возраст и историческая эпоха, оказавшая влияние на становление самосознания, учитывая именно российскую специфику. Дифференциация поколений определяет «возраст поколения», который соответствует этапам онтогенеза, определяется историческим развитием общества, эпохальными событиями, оказывающими влияние на развитие самосознания человека, его ценностно-смысловой сферы [2].
22% респондентов выборки (33 респондента) отметили наличие среди членов своей семьи репрессированных, 49% респондентов отметили отсутствие родственников, подвергшихся репрессиям, оставшиеся 29% не знают о наличии или отсутствии таких родственников.
22% респондентов выборки (33 респондента) отметили наличие среди членов своей семьи репрессированных, 49% респондентов отметили отсутствие родственников, подвергшихся репрессиям, оставшиеся 29% не знают о наличии или отсутствии таких родственников.
Результаты и их обсуждение
С помощью метода словесных ассоциаций в ходе эмпирического исследования было получено 556 ассоциации на понятие «репрессии», что в среднем составляет 3,7 ассоциации на респондента. Словарь понятий составил 188 различных слов и словосочетаний. В зону ядра и периферии представления о репрессиях вошли 317 ассоциаций (57% от общего числа ассоциаций, высказанных респондентами). Анализ содержания ядра представления о репрессиях свидетельствует о том, что ключевыми характеристиками данного явления в сознании респондентов являются «несправедливость», «страх» и «Сталин» (таблица 1).
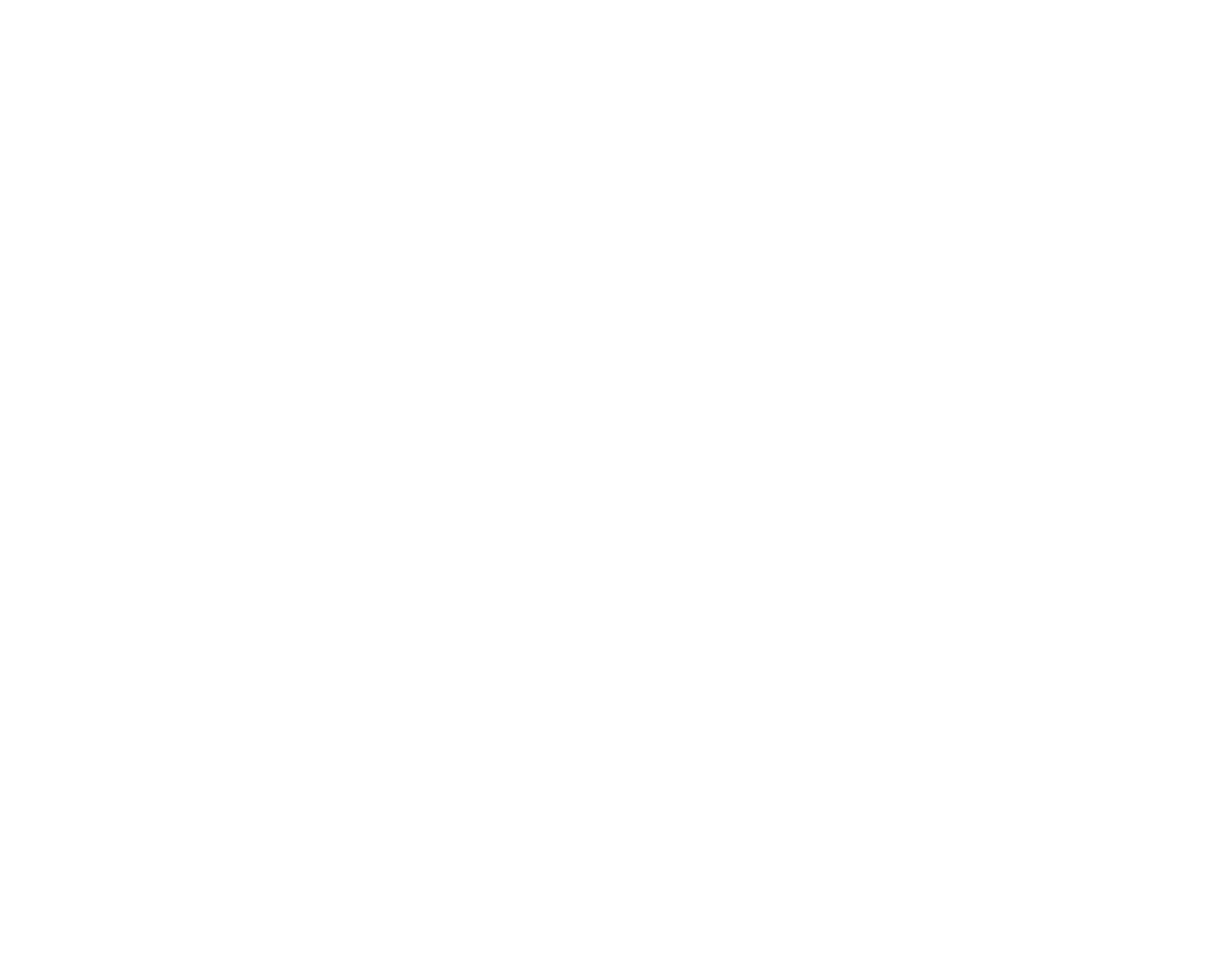
Структура представления о репрессиях
Содержание ядра представления в большей степени описывает представление о самом явлении репрессий – это несправедливое наказание, зачастую в форме расстрела. Данное явление связанно в сознании респондентов с конкретным политическим деятелем, и сопряжено с чувствами страха и боли.
Элементы зоны ядра конкретизируются за счет элементов периферии: с одной стороны, они описывают непосредственные инструменты репрессий, средства их реализации – арест, тюрьма, лагерь, убийства, смерть, унижения, жестокость, с другой стороны – описывают сопутствующие репрессиям переживания – ужас, страдание. Собственно периферическая система представления включает указание на причины репрессий, содержащиеся в сознании респондентов (донос, подавление). Данный структурный элемент является самым малочисленным, что позволяет заключить отсутствие у респондентов четкого осознания причин данного явления в историческом и социальном контексте.
Ассоциации, включенные в ядро и периферию представления о репрессиях, с целью обобщения были подвергнуты контент-анализу. В результате анализа результатов были получены следующие данные: средства («тюрьма», «лагерь», «арест», «смерть» и пр.) – 35,96%, эмоциональные переживания, сопряженные с репрессиями («страх», «ужас») – 25,23%, суждения, содержащие оценку («несправедливость», «жестокость») – 28%. В переструктурированном варианте все категории составили 89,19%.
Полученные результаты свидетельствуют о стабильности, устойчивости и высокой степени согласованности представлений о репрессиях. Данное заключение подтверждают такие данные, как сравнительно небольшой объем словаря понятий для стимула «репрессии» (численность понятий составила 188 единиц). Кроме того, ядро представления о репрессиях содержит 54,26% от всех ассоциаций, входящих в его структуру.
Сравнение структуры представлений о репрессиях у мужчин и женщин показало следующее пересечение значений зоны ядра: мужчины и женщины в качестве общих категорий, связанных с явлением репрессий выдвигают понятия – страх, наказание, Сталин и расстрел. Специфичными элементами зоны ядра у группы мужчин выступают понятия – СССР, арест, убийства. В группе женщин такими специфичными составляющими явились понятия – несправедливость, боль, страдание. Таким образом, в основе представления о репрессиях у мужчин в большей степени заложены фактические, событийные сведения, связанные с репрессиями. В то время как представления женщин в большей степени ориентированы на эмоционально-оценочную сторону данного явления. Данный факт позволяет предположить, что при изменении (дополнении, переструктурировании) представления о репрессиях мужчины и женщины в разной степени подвержены влиянию информации центрального и периферического пути убеждения. Если женщины в большей степени ориентированы на периферический путь убеждения (эмоциональное воздействие, опора на морально-нравственные категории), то мужчины склонны в большей степени ориентироваться на факты, аргументы и объективные сведения (центральный путь убеждения).
Кроме того, женщины склонны к высказыванию большего количества ассоциаций, так, высказанные ими ассоциации составляют 68,6% от общего числа.
Сравнительный анализ содержания представления о репрессиях у представителей различных поколений позволил установить имманентные элементы данного представления, характерные для всех респондентов вне зависимости от пола (таблица 2).
Элементы зоны ядра конкретизируются за счет элементов периферии: с одной стороны, они описывают непосредственные инструменты репрессий, средства их реализации – арест, тюрьма, лагерь, убийства, смерть, унижения, жестокость, с другой стороны – описывают сопутствующие репрессиям переживания – ужас, страдание. Собственно периферическая система представления включает указание на причины репрессий, содержащиеся в сознании респондентов (донос, подавление). Данный структурный элемент является самым малочисленным, что позволяет заключить отсутствие у респондентов четкого осознания причин данного явления в историческом и социальном контексте.
Ассоциации, включенные в ядро и периферию представления о репрессиях, с целью обобщения были подвергнуты контент-анализу. В результате анализа результатов были получены следующие данные: средства («тюрьма», «лагерь», «арест», «смерть» и пр.) – 35,96%, эмоциональные переживания, сопряженные с репрессиями («страх», «ужас») – 25,23%, суждения, содержащие оценку («несправедливость», «жестокость») – 28%. В переструктурированном варианте все категории составили 89,19%.
Полученные результаты свидетельствуют о стабильности, устойчивости и высокой степени согласованности представлений о репрессиях. Данное заключение подтверждают такие данные, как сравнительно небольшой объем словаря понятий для стимула «репрессии» (численность понятий составила 188 единиц). Кроме того, ядро представления о репрессиях содержит 54,26% от всех ассоциаций, входящих в его структуру.
Сравнение структуры представлений о репрессиях у мужчин и женщин показало следующее пересечение значений зоны ядра: мужчины и женщины в качестве общих категорий, связанных с явлением репрессий выдвигают понятия – страх, наказание, Сталин и расстрел. Специфичными элементами зоны ядра у группы мужчин выступают понятия – СССР, арест, убийства. В группе женщин такими специфичными составляющими явились понятия – несправедливость, боль, страдание. Таким образом, в основе представления о репрессиях у мужчин в большей степени заложены фактические, событийные сведения, связанные с репрессиями. В то время как представления женщин в большей степени ориентированы на эмоционально-оценочную сторону данного явления. Данный факт позволяет предположить, что при изменении (дополнении, переструктурировании) представления о репрессиях мужчины и женщины в разной степени подвержены влиянию информации центрального и периферического пути убеждения. Если женщины в большей степени ориентированы на периферический путь убеждения (эмоциональное воздействие, опора на морально-нравственные категории), то мужчины склонны в большей степени ориентироваться на факты, аргументы и объективные сведения (центральный путь убеждения).
Кроме того, женщины склонны к высказыванию большего количества ассоциаций, так, высказанные ими ассоциации составляют 68,6% от общего числа.
Сравнительный анализ содержания представления о репрессиях у представителей различных поколений позволил установить имманентные элементы данного представления, характерные для всех респондентов вне зависимости от пола (таблица 2).
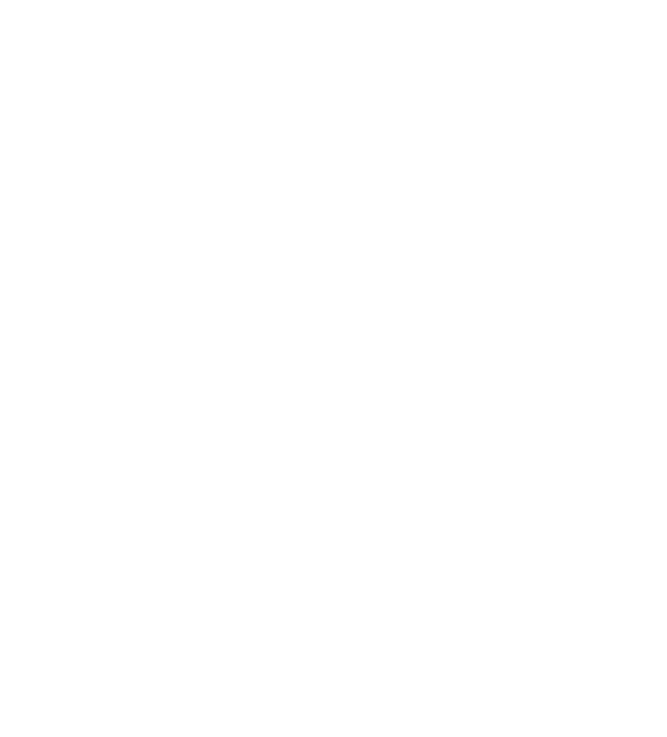
Структура представления о репрессиях у представителей различных поколений
Согласно проведенному анализу таким имманентным элементом для изучаемого представления выступает понятие страха, оно представлено в ядерных структурах представления всех изучаемых поколений.
Преставление о репрессиях у поколения эпохи «застоя» характеризуется наибольшей наполненностью – в структурную зону ядра и периферии включены 32 понятия, в то время как у представителей поколения эпохи «перестройки» – 20 понятий, а у представителей послевоенного поколения – 17 понятий. Кроме того, у респондентов, родившихся в период 1964-1984 годов, элементы структуры представления о репрессиях имеют большую согласованность между собой (частоты встречаемости понятий выше, чем у представителей других поколений). В то же время, лишь 40,6% понятий, содержащихся в элементах структуры представления данной группы, пересекаются с понятиями элементов представлений других групп. Понятия же элементов структур представления двух других поколений имеют пересечения выше 60% (поколения эпохи «перестройки» – 65%, послевоенного поколения – 64,7%). Сформированность данного типа представления у респондентов, родившихся 1964-1984 гг., может являться результатом более интенсивного вовлечения респондентов данного поколения в потоки информации о явлении политических репрессий, поскольку источниками формирования представлений выступают две категории – научное знание и убеждения.
Наиболее малочисленно по составу понятий и их частоте представление о репрессиях у респондентов, родившихся в период 1943-1963 гг., т.е. наиболее близких к непосредственным события периода политических репрессий. Подобная структура представления может быть следствием принятой респондентами когнитивной стратегии ограничения поля представления для снижения психологического дискомфорта, вызванного острым негативным переживанием.
Для оценки непосредственной аффективной реакции респондентов на слово-стимул – «репрессии» было проведено эмоциональное индексирование ассоциаций (по Е.Е. Прониной). Т.е. была проведена оценка уровня напряженности психики при предъявлении данного стимула посредством определения индекса нейтральности и индекса полярности.
Определение индекса нейтральности дало следующие результаты: для стимула «репрессии» ИН=-0,996. Полученное значение индекса можно интерпретировать как повышенную силу эмоций и тенденцию к аффекту у респондентов в отношении восприятия ими изучаемого явления. Установлено, что подобное эмоционально напряженное восприятие приводит к снижению адекватности осмысления получаемой информации [3]. Для определения направления данной эмоциональной реакции был определен индекс полярности эмоций. Для стимула «репрессии» ИП=-0,92, т.е. в отношении данного явления у респондентов превалируют негативные чувства. Полученное значение свидетельствует о возникновении у респондентов внутреннего сопротивления и отторжения информации, относящейся к изучаемому явлению [3].
Таким образом, эмоциональная напряженность и острые негативные переживания приводят к внутреннему сопротивлению, нежеланию респондентов включаться в коммуникативные потоки, содержащие обсуждение явления репрессий, а также составляют серьезное препятствие в адекватном осмыслении получаемой в отношении данного явления информации.
Для конкретизации содержания представлений о репрессиях был проведен анализ образа жертв репрессий, содержащийся в сознании респондентов, посредством рассмотрения результатов семантического дифференциала.
Результаты обнаруживают значительные различия по оценкам респондентов в профилях «Я» и «Жертва репрессий» по всем шкалам кроме шкал «тихое», «кратковременное» и «мягкое» (рис. 1.):
Преставление о репрессиях у поколения эпохи «застоя» характеризуется наибольшей наполненностью – в структурную зону ядра и периферии включены 32 понятия, в то время как у представителей поколения эпохи «перестройки» – 20 понятий, а у представителей послевоенного поколения – 17 понятий. Кроме того, у респондентов, родившихся в период 1964-1984 годов, элементы структуры представления о репрессиях имеют большую согласованность между собой (частоты встречаемости понятий выше, чем у представителей других поколений). В то же время, лишь 40,6% понятий, содержащихся в элементах структуры представления данной группы, пересекаются с понятиями элементов представлений других групп. Понятия же элементов структур представления двух других поколений имеют пересечения выше 60% (поколения эпохи «перестройки» – 65%, послевоенного поколения – 64,7%). Сформированность данного типа представления у респондентов, родившихся 1964-1984 гг., может являться результатом более интенсивного вовлечения респондентов данного поколения в потоки информации о явлении политических репрессий, поскольку источниками формирования представлений выступают две категории – научное знание и убеждения.
Наиболее малочисленно по составу понятий и их частоте представление о репрессиях у респондентов, родившихся в период 1943-1963 гг., т.е. наиболее близких к непосредственным события периода политических репрессий. Подобная структура представления может быть следствием принятой респондентами когнитивной стратегии ограничения поля представления для снижения психологического дискомфорта, вызванного острым негативным переживанием.
Для оценки непосредственной аффективной реакции респондентов на слово-стимул – «репрессии» было проведено эмоциональное индексирование ассоциаций (по Е.Е. Прониной). Т.е. была проведена оценка уровня напряженности психики при предъявлении данного стимула посредством определения индекса нейтральности и индекса полярности.
Определение индекса нейтральности дало следующие результаты: для стимула «репрессии» ИН=-0,996. Полученное значение индекса можно интерпретировать как повышенную силу эмоций и тенденцию к аффекту у респондентов в отношении восприятия ими изучаемого явления. Установлено, что подобное эмоционально напряженное восприятие приводит к снижению адекватности осмысления получаемой информации [3]. Для определения направления данной эмоциональной реакции был определен индекс полярности эмоций. Для стимула «репрессии» ИП=-0,92, т.е. в отношении данного явления у респондентов превалируют негативные чувства. Полученное значение свидетельствует о возникновении у респондентов внутреннего сопротивления и отторжения информации, относящейся к изучаемому явлению [3].
Таким образом, эмоциональная напряженность и острые негативные переживания приводят к внутреннему сопротивлению, нежеланию респондентов включаться в коммуникативные потоки, содержащие обсуждение явления репрессий, а также составляют серьезное препятствие в адекватном осмыслении получаемой в отношении данного явления информации.
Для конкретизации содержания представлений о репрессиях был проведен анализ образа жертв репрессий, содержащийся в сознании респондентов, посредством рассмотрения результатов семантического дифференциала.
Результаты обнаруживают значительные различия по оценкам респондентов в профилях «Я» и «Жертва репрессий» по всем шкалам кроме шкал «тихое», «кратковременное» и «мягкое» (рис. 1.):
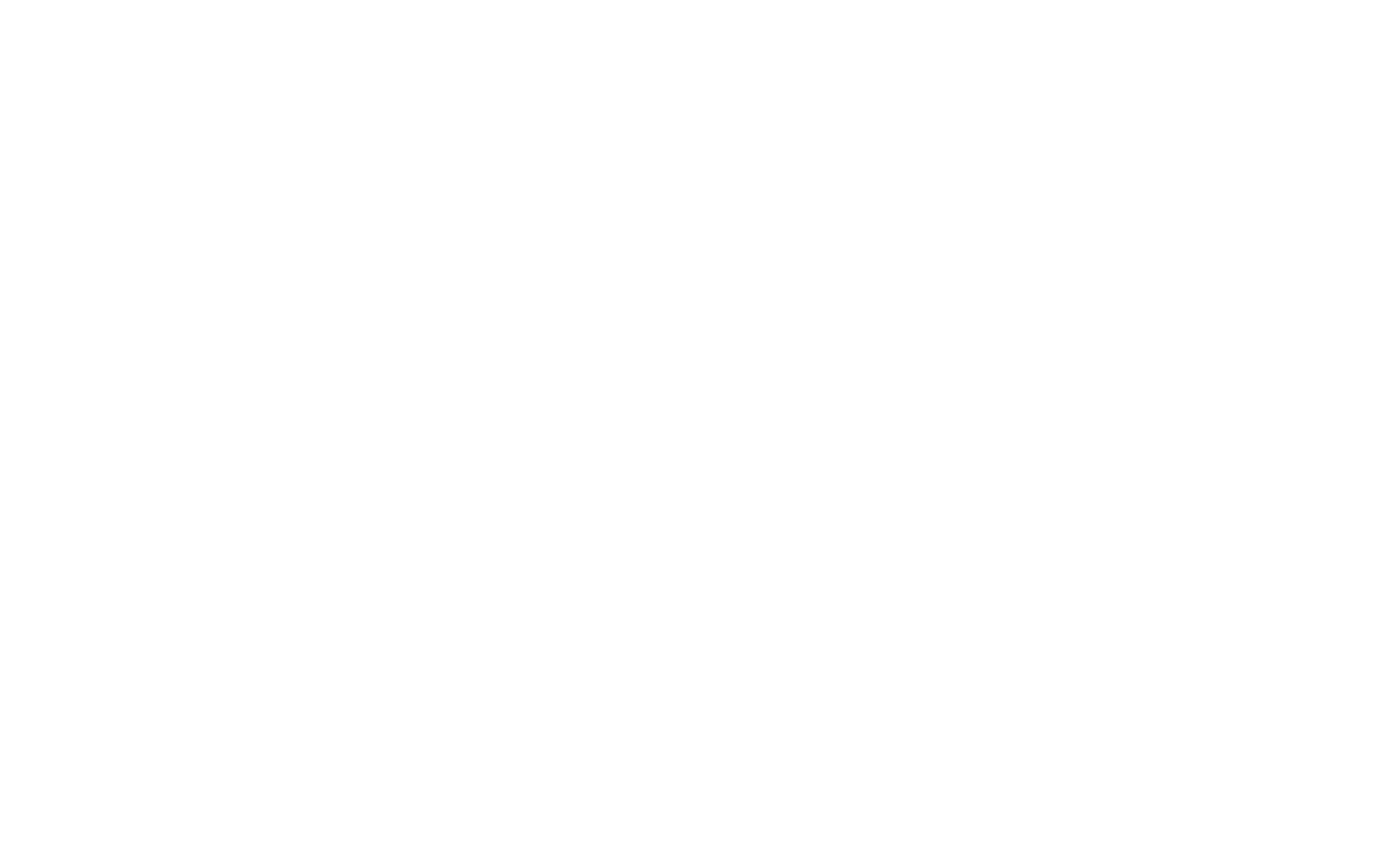
Рис. 1. Семантические профили «Я» и «Жертва репрессий» (n=150)
Факторизация полученного массива данных позволила установить, что респонденты разводят элементы «Я», «Моя семья» и «Жертва преступления», «преступник», «Жертва репрессий» в семантическом пространстве на противоположные полюса (таблица 3):
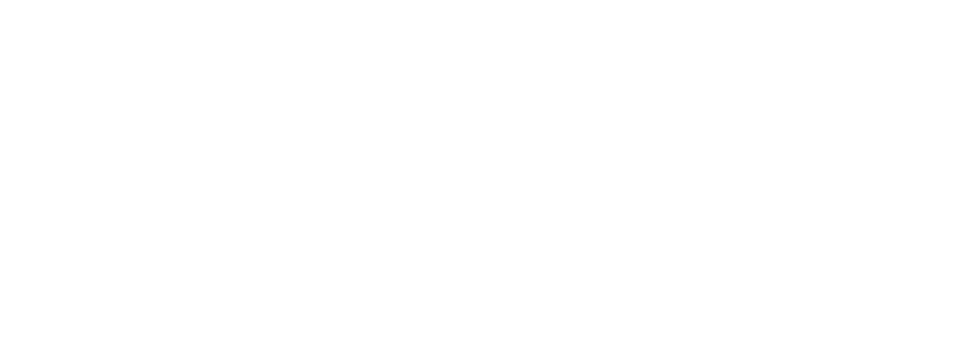
Распределение объектов семантического дифференциала по результатам респондентов, имеющих членов семьи, подвергшихся репрессиям (n=33)
В данном случае так же разводятся на разные полюса пространства группы объектов «Я», «Моя семья» и «Преступник», «Жертва преступления». При этом можно отметить некоторое промежуточное положение объекта «Жертва репрессий» по одному из факторов – он не относится ни к первой, ни ко второй группе. В семантическом пространстве распределение данных объектов выглядит следующим образом (рис. 2):
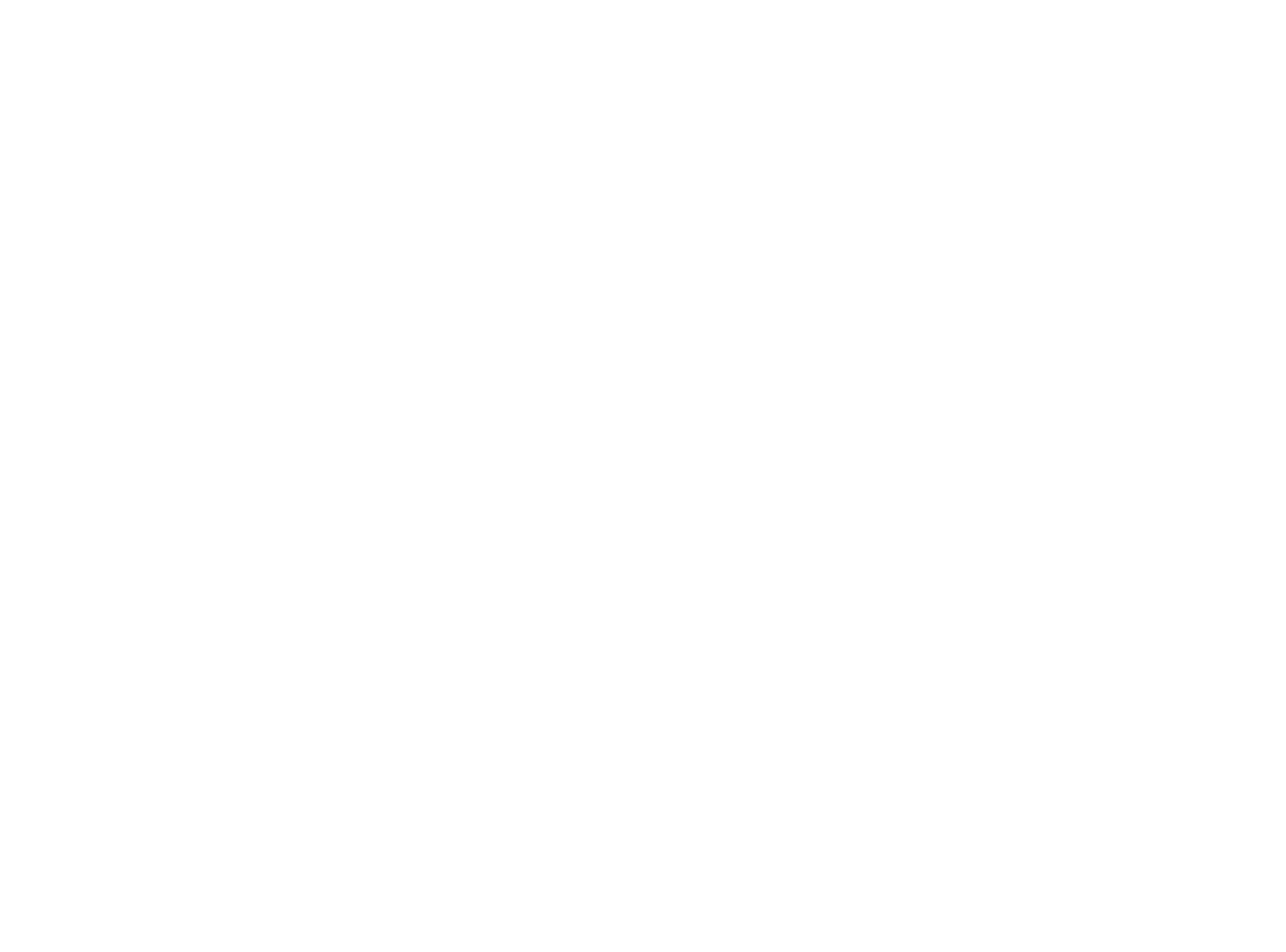
Рис. 2. Распределение в семантическом пространстве оцениваемых объектов
Т.е. несмотря на наличие членов семьи, являющихся жертвами репрессий, респонденты в своем сознании разводят данные объекты «Моя семья» – «Жертва репрессии». Различия в шкальном профиле сопоставляемых объектов по оценкам респондентов, имеющих членов семьи, подвергшихся репрессиям, представлены на рисунке 3.
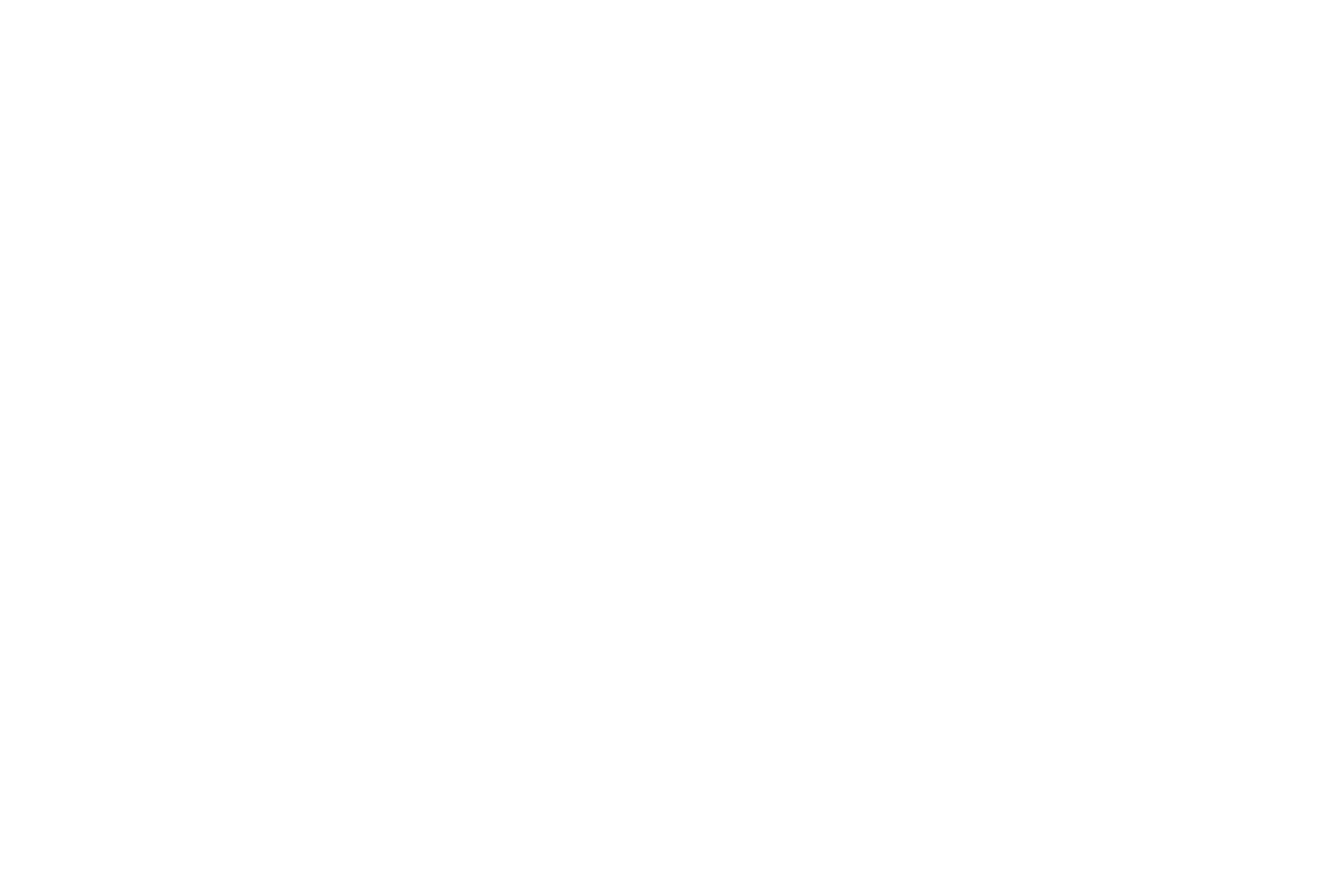
Рис. 3. Семантические профили «Моя семья» и «Жертва репрессий» (n=33)
Полученный результат подтверждает наличие эмоциональной напряженности и острых негативных эмоциональных переживаний, связанных у респондентов с явлением репрессий, что приводит к уже отмеченному ранее внутреннему сопротивлению, нежеланию респондентов иметь отношение к данному явлению, вплоть до дистанцирования в сознании от членов семьи, подвергшихся репрессиям.
Последующий анализ массива данных был посвящен определению групповых универсалий в оценке образа жертвы репрессий. Для этого была проведена оценка размаха интервала оценивания респондентами признаков объекта. Совокупная группа респондентов в качестве семантических универсалий демонстрирует характеристики образа жертвы репрессий:
– Несчастное (ст.отклонение 1,419; интервал размаха 20%)
– Грустное (ст.отклонение 1,295; интервал размаха 18,5%)
– Страдающее (ст.отклонение 1,462; интервал размаха 20,8%).
Т.е. наиболее значимой универсалией при оценке образа жертвы репрессий выступает признак «грустный». Группа респондентов, имеющих среди членов семьи репрессированных, имеет точно такой же перечень семантических универсалий, но выделенные переменные имеют несколько другое значение:
– Несчастное (ст.отклонение 1,768; интервал размаха 25%)
– Грустное (ст.отклонение 1,285; интервал размаха 18%)
– Страдающее (ст.отклонение 1,175; интервал размаха 16,8%).
В данной группе наиболее значимой переменной выступает характеристика «страдающее», в то время как переменная «грустное», имеющая наибольшее значение по оценке совокупной выборки респондентов, в данном случае наименее значима.
На следующем этапе анализа была проведена факторизация массива данных по переменным, а не объектам.
В результате факторного анализа данных совокупной выборки было выделено 3 фактора с общей объясненной дисперсией – 97, 800%.
Первый выделенный фактор, является биполярным. Положительный полюс фактора образован переменными: чистый (0,959), плавный (0,955), поощряемый (0,948) и теплый (0,922), светлый (0,900). Отрицательный полюс составили такие характеристики как: жесткий (-0,989), грубый (-0,997) и опасный (-0,994). Таким образом, положительный полюс фактора составляют характеристики, относящиеся к позитивному восприятию объекта окружающими (чистый, поощряемый, приятный), т.е. объект безопасный. В то время как отрицательный полюс фактора составляют черты опасного (жесткий, грубый, опасный).
Такое распределение характеристик позволяет интерпретировать данный фактор как «Безопасность – Опасность».
Положительный полюс данного фактора представлен такими дескрипторами как «Моя семья» (0,9614), «Я» (0,522) и «Жертва преступления» (0,24828). На отрицательном полюсе данного фактора находятся координаты дескриптора «Преступник» (-1,65399) и ближе к нейтральной оценке – «Жертва репрессий» (-0,07756).
Последующий анализ массива данных был посвящен определению групповых универсалий в оценке образа жертвы репрессий. Для этого была проведена оценка размаха интервала оценивания респондентами признаков объекта. Совокупная группа респондентов в качестве семантических универсалий демонстрирует характеристики образа жертвы репрессий:
– Несчастное (ст.отклонение 1,419; интервал размаха 20%)
– Грустное (ст.отклонение 1,295; интервал размаха 18,5%)
– Страдающее (ст.отклонение 1,462; интервал размаха 20,8%).
Т.е. наиболее значимой универсалией при оценке образа жертвы репрессий выступает признак «грустный». Группа респондентов, имеющих среди членов семьи репрессированных, имеет точно такой же перечень семантических универсалий, но выделенные переменные имеют несколько другое значение:
– Несчастное (ст.отклонение 1,768; интервал размаха 25%)
– Грустное (ст.отклонение 1,285; интервал размаха 18%)
– Страдающее (ст.отклонение 1,175; интервал размаха 16,8%).
В данной группе наиболее значимой переменной выступает характеристика «страдающее», в то время как переменная «грустное», имеющая наибольшее значение по оценке совокупной выборки респондентов, в данном случае наименее значима.
На следующем этапе анализа была проведена факторизация массива данных по переменным, а не объектам.
В результате факторного анализа данных совокупной выборки было выделено 3 фактора с общей объясненной дисперсией – 97, 800%.
Первый выделенный фактор, является биполярным. Положительный полюс фактора образован переменными: чистый (0,959), плавный (0,955), поощряемый (0,948) и теплый (0,922), светлый (0,900). Отрицательный полюс составили такие характеристики как: жесткий (-0,989), грубый (-0,997) и опасный (-0,994). Таким образом, положительный полюс фактора составляют характеристики, относящиеся к позитивному восприятию объекта окружающими (чистый, поощряемый, приятный), т.е. объект безопасный. В то время как отрицательный полюс фактора составляют черты опасного (жесткий, грубый, опасный).
Такое распределение характеристик позволяет интерпретировать данный фактор как «Безопасность – Опасность».
Положительный полюс данного фактора представлен такими дескрипторами как «Моя семья» (0,9614), «Я» (0,522) и «Жертва преступления» (0,24828). На отрицательном полюсе данного фактора находятся координаты дескриптора «Преступник» (-1,65399) и ближе к нейтральной оценке – «Жертва репрессий» (-0,07756).
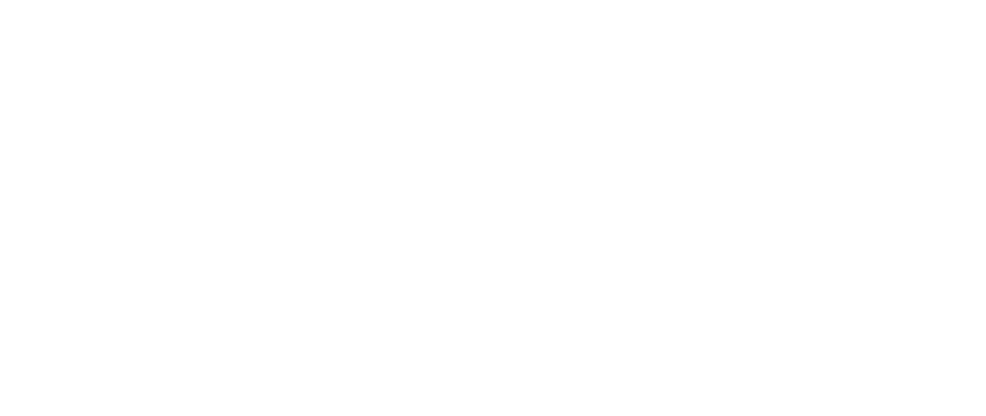
Фактор 1 (52,273%). «Безопасность – Опасность»
Второй фактор так же биполярен. Его положительный полюс образован такими характеристиками как: движущийся (0,976), быстрый (0,958) и упругий (0,991). Отрицательный полюс составили такие характеристики как: страдающий (-0,975), несчастный (-0,867) и пессимистичный (-0,778). Т. е. положительный полюс фактора составляют характеристики, относящиеся к пониманию объекта как проявляющего активность (быстрый, движущийся), в то время как отрицательный полюс фактора составляют черты объекта, отражающие его пассивное положение (страдающий от чего-то, несчастный от чего-то).
Такое распределение характеристик позволяет интерпретировать данный фактор как «Активность – Пассивность».
Положительный полюс данного фактора представлен такими дескрипторами как «Я» (0,87325) и «Моя семья» (0,72365) и «преступник» (0,583). На отрицательном полюсе данного фактора находятся координаты дескрипторов «Жертва преступления» (-1,09652) и «Жертва репрессий» (-1,08272).
Такое распределение характеристик позволяет интерпретировать данный фактор как «Активность – Пассивность».
Положительный полюс данного фактора представлен такими дескрипторами как «Я» (0,87325) и «Моя семья» (0,72365) и «преступник» (0,583). На отрицательном полюсе данного фактора находятся координаты дескрипторов «Жертва преступления» (-1,09652) и «Жертва репрессий» (-1,08272).
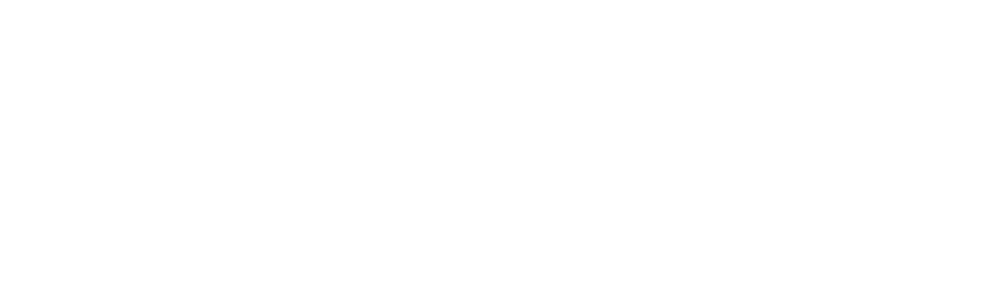
Фактор 2 (39,952%). «Активность – Пассивность»
Третий фактор так же имеет два полюса. Его положительный полюс образован такой характеристикой как сложный (0,509). Отрицательный полюс – кратковременный (-0,763). Такое распределение характеристик позволяет интерпретировать данный фактор как «Продолжительность».
На положительном полюсе данного фактора находятся координаты таких дескрипторов как «Жертва репрессий» (1,41747) и «Моя семья» (0,14464). На отрицательном полюсе данного фактора находятся координаты дескрипторов «Жертва преступления» (-1,391) и «Преступник» (-0,18638). Дескриптор «Я» занимает нейтральное положение (0,01527).
На положительном полюсе данного фактора находятся координаты таких дескрипторов как «Жертва репрессий» (1,41747) и «Моя семья» (0,14464). На отрицательном полюсе данного фактора находятся координаты дескрипторов «Жертва преступления» (-1,391) и «Преступник» (-0,18638). Дескриптор «Я» занимает нейтральное положение (0,01527).
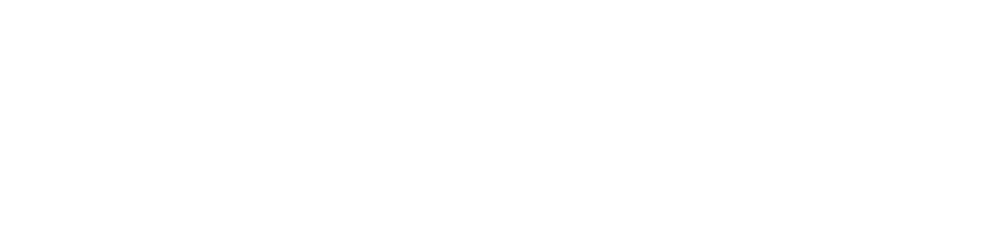
Фактор 3 (5,573%). «Сложность – Простота»
Итак, полученные результаты указывают на то, что в сознании респондентов жертвы репрессий оцениваются в соответствии со следующими основными измерениями: «Безопасность – Опасность», «Активность – Пассивность» и «Сложность – Простота».
Факторизация данных респондентов, имеющих среди членов своей семьи репрессированных, дала сходный результат. Было выделено так же 3 значимых фактора с общей объясненной дисперсией – 97,132%. Состав факторов и расположение на них дескрипторов точно повторяет результат факторизации совокупной выборки (Приложение 2).
Т.е. так же были выделены факторы «Безопасность – Опасность», «Активность – Пассивность» и «Сложность – Простота», на основе которых строится образ жертв репрессий. Данный согласованный результат двух групп указывает на универсальность оснований для оценки жертв репрессий. Таким образом респонденты воспринимают жертв репрессий как сложный, протяженный во времени феномен, по своей природе представляющий собой результат действия внешних обстоятельств, при этом сами жертвы репрессий оцениваются нейтрально с точки зрения их безопасности/опасности.
Факторизация данных респондентов, имеющих среди членов своей семьи репрессированных, дала сходный результат. Было выделено так же 3 значимых фактора с общей объясненной дисперсией – 97,132%. Состав факторов и расположение на них дескрипторов точно повторяет результат факторизации совокупной выборки (Приложение 2).
Т.е. так же были выделены факторы «Безопасность – Опасность», «Активность – Пассивность» и «Сложность – Простота», на основе которых строится образ жертв репрессий. Данный согласованный результат двух групп указывает на универсальность оснований для оценки жертв репрессий. Таким образом респонденты воспринимают жертв репрессий как сложный, протяженный во времени феномен, по своей природе представляющий собой результат действия внешних обстоятельств, при этом сами жертвы репрессий оцениваются нейтрально с точки зрения их безопасности/опасности.
Заключение
Обыденные представления о политических репрессиях характеризуются устойчивостью во времени, согласованностью и стереотипностью содержания.
Наиболее выраженной частью представления о репрессиях является представление о средствах, инструментах осуществления политических репрессий. Семантической универсалией представления выступает категория «страх», располагаемая в ядре преставления респондентов всех поколений. Коме того, ключевыми характеристиками данного явления в сознании респондентов являются понятия «несправедливость» и «Сталин».
Представления о репрессиях у различных поколений отличается. Так, преставление о репрессиях у поколения эпохи «застоя» характеризуется наибольшей наполненностью, обширностью, чем у других поколений. Наиболее малочисленно по составу понятий и их частоте представление о репрессиях у респондентов, родившихся в период 1943-1963 гг., т.е. наиболее близких к непосредственным события периода политических репрессий. Подобная структура представления может быть следствием принятой респондентами когнитивной стратегии ограничения поля представления для снижения психологического дискомфорта, вызванного острым негативным переживанием.
Представления о репрессиях имеют свою специфику в группах мужчин и женщин. В основе представления о репрессиях у мужчин в большей степени заложены фактические, событийные сведения, связанные с репрессиями. В то время как представления женщин в большей степени ориентированы на эмоционально-оценочную сторону данного явления.
Определение непосредственной аффективной реакции респондентов на слово-стимул – «репрессии» показало наличие эмоциональной напряженности и острых негативных переживаний респондентов при предъявлении данного стимула. Что может приводить к внутреннему сопротивлению, нежеланию респондентов включаться в коммуникативные потоки, содержащие обсуждение явления репрессий, а также составляет серьезное препятствие в адекватном осмыслении получаемой в отношении данного явления информации. Вероятно, данный эффект приводит и к дистанцированию от жертв политических репрессий, в том числе и от членов своей семьи. Невозможность справиться с острым переживанием отрицательных чувств заставляет респондентов проводить грань, разделение между категориями «Моя семья» и «Жертвы репрессий», даже если эти категории фактически пересекаются.
Образ жертв репрессий является согласованным, стереотипным по своему содержанию, основанным на оценке факторов «Безопасность – Опасность», «Активность – Пассивность» и «Сложность – Простота». Жертвы репрессий воспринимаются как сложный, протяженный во времени феномен, по своей природе представляющий собой результат действия внешних обстоятельств, при этом сами жертвы репрессий оцениваются нейтрально с точки зрения их безопасности/опасности. Семантическими универсалиями образа жертв репрессий являеются категории – Несчастное, Грустное и Страдающее.
Наиболее выраженной частью представления о репрессиях является представление о средствах, инструментах осуществления политических репрессий. Семантической универсалией представления выступает категория «страх», располагаемая в ядре преставления респондентов всех поколений. Коме того, ключевыми характеристиками данного явления в сознании респондентов являются понятия «несправедливость» и «Сталин».
Представления о репрессиях у различных поколений отличается. Так, преставление о репрессиях у поколения эпохи «застоя» характеризуется наибольшей наполненностью, обширностью, чем у других поколений. Наиболее малочисленно по составу понятий и их частоте представление о репрессиях у респондентов, родившихся в период 1943-1963 гг., т.е. наиболее близких к непосредственным события периода политических репрессий. Подобная структура представления может быть следствием принятой респондентами когнитивной стратегии ограничения поля представления для снижения психологического дискомфорта, вызванного острым негативным переживанием.
Представления о репрессиях имеют свою специфику в группах мужчин и женщин. В основе представления о репрессиях у мужчин в большей степени заложены фактические, событийные сведения, связанные с репрессиями. В то время как представления женщин в большей степени ориентированы на эмоционально-оценочную сторону данного явления.
Определение непосредственной аффективной реакции респондентов на слово-стимул – «репрессии» показало наличие эмоциональной напряженности и острых негативных переживаний респондентов при предъявлении данного стимула. Что может приводить к внутреннему сопротивлению, нежеланию респондентов включаться в коммуникативные потоки, содержащие обсуждение явления репрессий, а также составляет серьезное препятствие в адекватном осмыслении получаемой в отношении данного явления информации. Вероятно, данный эффект приводит и к дистанцированию от жертв политических репрессий, в том числе и от членов своей семьи. Невозможность справиться с острым переживанием отрицательных чувств заставляет респондентов проводить грань, разделение между категориями «Моя семья» и «Жертвы репрессий», даже если эти категории фактически пересекаются.
Образ жертв репрессий является согласованным, стереотипным по своему содержанию, основанным на оценке факторов «Безопасность – Опасность», «Активность – Пассивность» и «Сложность – Простота». Жертвы репрессий воспринимаются как сложный, протяженный во времени феномен, по своей природе представляющий собой результат действия внешних обстоятельств, при этом сами жертвы репрессий оцениваются нейтрально с точки зрения их безопасности/опасности. Семантическими универсалиями образа жертв репрессий являеются категории – Несчастное, Грустное и Страдающее.
Список литературы
1. Емельянова Т. П. Социальная психология. Социальное представление как инструмент коллективной памяти (на примере воспоминаний о Великой Отечественной Войне) // Психологический журнал. – 2002. – Т. 23. – № 4. – С. 56-66.
2. Постникова М.И. Концептуальная модель межпоколенных отношений в современном российском обществе // Мир науки, культуры и образования. – 2010. – №2. – С. 78-82.
3. Пронина Е.Е. Психологическая экспертиза рекламного текста. М., 2000.
4. Abric J-C. (2001). Representations of the Social: Bridging Theoretical Traditions. Oxford: Blackwell Publishers.
5. Ahonen S. (1998). Historiaton sukupolvi? Historian vastaanotto ja historiallisen identiteetin rakentuminen 1990-luvun nuorison keskuudessa [The noǦhistory generation? The reception of history and the construction of historical identity by young people in the 1990s]. Helsinki, Finland: Suomen Historiallinen Seura [Finnish Historical Society].
6. Ashmore R.D., Jussim L., Wilder D. (Eds.) (2001). Social identity, intergroup conflict, and conflict reduction. Oxford: Oxford University Press.
7. Baker K. G., Gippenreiter J. B. (1996). The effects of Stalin's purge on three generations of Russian families. Family Systems, 3, 5-35.
8. Bar-Tal D. (1990). Causes and consequences of delegitimization: Models of conflict and ethnocentrism. Journal of Social Issues, 46 (1), 65-81.
9. Bar-Tal D. (2000). Shared beliefs in a society: Social psychological analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.
10. Bar-Tal D., Chernyak-Hai L., Schori N., Gundar A. (2009). A sense of self-perceived collective victimhood in intractable conflicts. International Red Cross Review, 91, 229-277.
11. Bar-Tal D., Geva N. (1986). A cognitive basis of international conflicts. In S. Worchel & W. B. Austin (Eds.). Psychology of intergroup relations (pp. 118-133). Chicago: Nelson-Hall.
12. Bauer M., Gaskell G. (1999). Towards a Paradigm for Research on Social Representations. Journal for the Theory of Social Behaviour, 29(2), 163-186.
13. Baumeister R. F., Bratslavsky E., Finkenauer C., Vohs K. D. (2001). Bad Is Stronger Than Good. Review of General Psychology, 5, 323-370.
14. Baumeister R. F., Gastings S. (1997). Distortions of collective memory: How groups flatter and deceive themselves. In J. W. Pennebaker, D. Paez, & B. Rimé (Eds.), Collective memory of political events: Social psychological perspectives (pp. 277-293). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
15. Belleli G., Amatulli M. A. C. (1997). Nostalgia, Immigration and Collective Memory. In J. W. Pennebaker, D. Páez, & B. Rimé (Eds.), Collective memory of political events: Social psychological perspectives (pp. 209-220). Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.
16. Bowlby J. (1973). Attachment and loss: Vol. 2. Separation, anxiety and anger. New York, NY: Basic Books.
17. Cairns E., Roe M. D. (Ed.). (2003). The role of memory in ethnic conflict. New York: Palgrave Macmillan.
18. Candau J. (2005). Anthropologie de la mémoire. Paris: Armand Colin.
19. Carmil D., Breznitz S. (1991). Personal trauma and world view: Are extremely stressful experiences related to political attitudes, religion beliefs, and future orientation? Journal of Traumatic Stress, 4, 393-405.
20. Cash J. D. (1996). Identity, ideology and conflict: The structuration of politics in Northern Ireland. Cambridge: Cambridge University Press.
21. Cassel L., Suedfeld P. (2006). Salutogenesis and autobiographical disclosure among Holocaust survivors. Journal of Positive Psychology, 1, 212-225.
22. Cohen M., Brom D., Dasberg H. (2001). Child survivors of the Holocaust: Symptoms and coping after fifty years. Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences, 38, 3-12.
23. Cohrs J., C., Moschner B., Maes J. Kielman S. (2005). The motivational basis of right-wing authoritarianism and social dominance orientation: Relations to values and attitudes in the aftermath of September 11, 2001. Personality and Social Psychology Bulletin, 31, 1425-1434
24. Connerton P. (1989). How societies remember. New York: Cambridge University Press.
25. Conrad S. (2003). Entangled memories: Versions of the past in Germany and Japan. Journal of Contemporary History, 38(1), 85-99.
26. Devine-Wright P. (2003). A theoretical overview of memory and conflicts. In E. Cairns & M. D. Roe (Eds.). The role of memory in ethnic conflict (pp. 9-34). New York, NY: Palgrave Macmillan.
27. Doosje B., Branscombe N. R., Spears R., Manstead A. S. R. (1998). Guilty by association: When one's group has a negative history. Journal of Personality and Social Psychology, 75, 872-886.
28. Dresler-Hawke E. (2000). Reconstructing the past: Perceptions of the Holocaust and positioning of German national identity. Unpublished Doctoral thesis, Victoria University of Wellington, New Zealand.
29. Etkind A. (2013). Warped Mourning. Stories of the Undead in the Land of the Unburied. Stanford, CA:Stanford University Press
30. Ferren P. M. (1999). Comparing perceived self-efficacy among adolescent Bosnian and Croatian refugees with and without posttraumatic stress disorder. Journal of Traumatic Stress, 12, 405-420.
31. Fletcher K. E. (1996). Childhood posttraumatic stress disorder. In E. J. Mash & R. A. Barkley (Eds.). Child psychopathology (pp. 242-276). New York, NY: Guilford.
32. Halbwachs M. (1950/1980). The collective memory. New York: Harper & Row.
33. Halbwachs M. (1992). On collective memory. Chicago: University of Chicago Press.
34. Hein L., Selden M. (Eds.). (2000). Censoring history: Citizenship and memory in Japan, Germany, and the United States. Armonk, NY: An East Gate Book.
35. Hobsbawm E., Ranger T. (1983). The invention of tradition. Cambridge: Cambridge University Press.
36. Hofstede G. (2001). Culture's consequences: Comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations. Thousand Oaks, CA: Sage.
37. Horwath J (2007). Child Neglect: Identification and Assessment, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan
38. Howe N., Strauss W. (1991). Generations: The history of America's future, 1584 to 2069. N.Y.: William Morrow & Company.
39. Huang L. L., Liu J. H., Chang M. (2004). The "double identity" of Taiwanese Chinese: A dilemma of politics and culture rooted in history. Asian Journal of Psychology, 7(2), 149-189.
40. Inglehart R., Basañez M., Diez-Medrano J., Halman L. Luijkx R. (2004). Human beliefs and values. Mexico: Siglo XXI.
41. Janoff-Bulman R., Frieze I. H. (1983). A theoretical perspective for understanding reactions to victimization. Journal of Social Issues, 39(2), 1-17.
42. Jodelet D. (1989). Représentations sociales: un domain en expansion. In: Les Représentations Sociales. (pp. 31-61). Paris: Presses Universitaires de France.
43. Kadushin A. (1976). Adopting older children: Summary and implications. In A. M. Clarke & A. D. B. Clarke (Eds.). Early experience: Myth and evidence (pp.). New York, NY: Free Press.
44. Kawachi I., Berkman L. (2000). Social ties and mental health. Journal of Urban Health, 78, 458-467.
45. Keilson H. (1992). Sequential traumatization in children: A clinical and statistical follow-up study on the fate of the Jewish war orphans in the Netherlands. Jerusalem, Israel: Manges Press.
46. Kellermann N. P. F. (2001). The long-term psychological effects and treatment of Holocaust trauma. Journal of Loss and Trauma, 6, 197-218.
47. Kennedy P. M. (1987). The rise and fall of the great powers. New York: Random House.
48. Lau I. Y. M., Chiu C. Y., Lee S. L. (2001). Communication and shared reality: Implications for the psychological foundations of culture. Social Cognition, 19(3), 350-371.
49. Licata L., Klein O. (2010). Holocaust or benevolent paternalism? Intergenerational comparisons on collective memories and emotions about Belgium's colonial past. International Journal of Conflict and Violence, 4, 45-57
50. Liu J. H. (1999). Social representations of history: Preliminary notes on content and consequences around the Pacific Rim. International Journal of Intercultural Relations, 23, 215-236.
51. Liu J. H. (2013). Narratives and Social Memory from the Perspective of Social Representations of History In R. Cabecinhas, L. Abadia (Eds.). Narratives and social memory: theoretical and methodological approaches (pp. 11-24). Braga, Portugal: CECS – Communication and Society Research Centre, University of Minho.
52. Liu J. H., Hilton D. (2005). How the past weighs on the present: Social representations of history and their role in identity politics. British Journal of Social Psychology, 44, 537-556.
53. Liu J. H., Lawrence B., Ward C., Abraham S. (2002). Social representations of history in Malaysia and Singapore: On the relationship between national and ethnic identity. Asian Journal of Social Psychology, 5(1), 3-20.
54. Liu J. H., Páez D., Hanke K., Rosa A., Hilton D., Sibley C. (2011). Cross-Cultural Dimensions of Meaning in the Evaluation of Events in World History? Perceptions of Historical Calamities and Progress in Cross-Cultural Data From Thirty Societies. Journal of Cross-Cultural Psychology, 43 (2), 251-272.
55. Liu J. H., Wilson M. W., McClure J., Higgins T. R. (1999). Social identity and the perception of history: Cultural representations of Aotearoa/New Zealand. European Journal of Social Psychology, 29, 1021-1047.
56. Lomranz J. (1995). Endurance and living: Long-term effects of the Holocaust. In S. E. Hobfoll & M. W. de Vries (Eds.). Extreme stress and communities: Impact and intervention (pp. 325-352). Dordrecht, the Netherlands: Kluwer.
57. Lomsky-Feder E. (2004). Life stories, war and veterans: On the social distribution of memories. Ethnos, 32, 82-109.
58. Mack J., E. (1990). The psychodynamics of victimization among national groups in conflict. In V. D. Volkan, D. A. Julius, & J. V. Montville (Eds.). The psychodynamics of international relationships (pp. 119-129). Lexington, MA: Lexington Books
59. Malinowski B. (1926). Myth in primitive psychology. London: Kegan Paul, Trench, Trubner.
60. Moscovici S. (1973). Foreword In C. Herzlich (Ed.). Health and Illness. A Social Psychological Analysis (pp. Xiii). London: Academic Press.
61. Moscovici S. (1983). L'age des foules. Un traité historique de psychologie des masses. Brussels: Éditions Complexe.
62. Moscovici S. (1984). The phenomenon of social representations. In R. M. Farr & S. Moscovici (Eds.). Social representations (pp. 3-70). Cambridge: Cambridge University Press.
63. Moscovici S. (1988). Notes towards a description of social representations. European Journal of Social Psychology, 18, 211-250.
64. Moscovici S. (2000). Social Representations. Explorations in Social Psychology. Cambridge, UK: Polity Press.
65. Myers J. K., Weissman M. M., Tischler G. L., Holzer C. E., Leaf P. J., Orvaschel H., Anthony J. C., Boyd J. H., Burke J. D., Kramer M. (1984). Six-month prevalence of psychiatric disorders in three communities 1980-1982. Archives of General Psychiatry, 41, 959-967.
66. Nadler A., Ben-Shushan, D. (1989). Forty Years Later: Long-term Consequences of Massive Traumatization as Manifested by Holocaust Survivors from the City and the Kibbutz. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 57, 287-293.
67. Nelson C. A., Zeanah C. H., Fox N. A., Marshall P. J., Smyke A. T., Guthrie D. (2007). Cognitive recovery in socially deprived young children: The Bucharest Early Intervention Project. Science, 318, 1937-1940.
68. Nolen-Hoeksema S. (1990). Sex differences in depression. Stanford, CA: Stanford University Press.
69. Norris F. H., Friedman M. J., Watson P. J., Byrne C. M., Diaz E., Kaniasty K. (2002). 60,000 disaster victims speak: Part 1. An empirical review of the empirical literature, 1981-2001. Psychiatry, 65, 207-239.
70. Oren N., Bar-Tal D. (2006). Ethos and identity: Expressions and changes in the Israeli Jewish society. Estudios de Psicología, 27, 293-316.
71. Oren N., Bar-Tal D., David O. (2004). Conflict, identity and ethos: The Israeli-Palestinian case. In Y-T. Lee, C. R. McCauley, F. M. Moghaddam, S. Worchel (Ed.). Psychology of ethnic and cultural conflict (pp. 133-154). Westport, CT: Praeger.
72. Páez D., Bobowik M., de Guissmé L., Liu J. H., Licata L. (2015). Collective Memory and Social Representations of History. Unpublished extended English version of chapter Mémoire collective et representations sociales de l'Histoire. In G. Monaco, S. Delouvée, & P. Rateau (Eds.). Les représentations sociales. Théories, méthodes et applications (pp. xx-yy). Bruxelles: De Boeck.
73. Páez D., Liu J., Techio E., Slawuta P., Zlobina A. Cabecinhas R. (2008). Remembering World War II and willigness to fight: Sociocultural factors in the social representation of historical warfare across 22 societies. Journal of Cross Cultural Psychology, 39(4), 373-401.
74. Pennebaker J. W., Páez D., Deschamps J. C. (2006). The social psychology of history. Psicología Política, 32, 15-32.
75. Pennebaker J. W., Paez D., Rime B. (1997). Collective memory of political events. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
76. Robinson S., Hemmendinger J., Netanel R., Rapaport M., Zilberman L., Gal A. (1994). Retraumatization of Holocaust survivors during the Gulf war and SCUD missile attacks on Israel. British Journal of Medical Psychology, 67, 353-362.
77. Ross M. H. (1993). The culture of conflict: Interpretation and interests in comparative perspective. New Haven, CT: Yale University Press.
78. Ross M. H. (2001). Psychocultural interpretations and dramas: Identity dynamics in ethnic conflict. Political Psychology, 22, 157-198.
79. Rousseau C., Drapeau A., Rahimi S. (2003). The complexity of trauma response: A 4-year follow-up of adolescent Cambodian refugees. Child Abuse and Neglect, 27, 1277-1290.
80. Routledge C., Arndt J., Sedikides C., Wildschut T. (2008). A blast from the past: The terror management function of nostalgia. Journal of Experimental Social Psychology, 44, 132-140.
81. Routledge C., Arndt J., Wildschut T., Sedikides C., Hart C., Vingerhoets J., Juhl J., Schlotz W. (2011). The past makes the present meaningful: Nostalgia as an existential resource. Journal of Personality and Social Psychology, 3, 638-652.
82. Shanan J., Shahar O. (1983). Cognitive and personality functioning of Jewish Holocaust survivors during the midlife transition (46-65) in Israel. Archiv fur Psychologie, 135, 275-294.
83. Sidanius J. Pratto F. (2001). Social dominance: An intergroup theory of social hierarchy and oppression. Cambridge: Cambridge University Press.
84. Sigal J. J., Weinfeld M. (2001). Do children cope better than adults with potentially traumatic stress? A 40-year follow-up of Holocaust survivors. Psychiatry, 64, 69-80.
85. Smeekes A. (2015). National nostalgia: A group-based emotion that benefits the in-group but hampers intergroup relations. International Journal of Intercultural Relations, 49, 54-67.
86. Smeekes A., Verkuyten M. (2015). The presence of the past: Identity continuity and group dynamics. European Review of Social Psychology, 26, 162-202.
87. Tajfel H., Turner J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. In W. G. Austin, S. Worchel (Eds.). The social psychology of intergroup relations (pp. 33-37). Monterey, CA: Brooks/Cole.
88. Taylor S., Klein L., Lewis, B. (2000). Biobehavioral responses to stress in females: Tend-and-befriend, not fight-or-flight. Psychological Review, 107, 411-429.
89. Vergès P. (1992). Bulletin de psychologie. [Bulletin of psychology] XLV, 405, 203-209.
90. Volkan V. (1997). Blood lines: From ethnic pride toethnic terrorism. New York, NY: Farrar, Straus &Giroux.
91. Ward C., Bochner S., Furnham A. (2001). The psychology of culture shock. East Sussex, UK: Routledge.
92. Wertsch J. (2002). Voices of Collective Remembering. Cambridge University Press.
93. Wolfe J., Kimerling R. (1997). Gender issues in the assessment of posttraumatic stress disorder. In Wilson J. & Keane T. (Eds.). Assessing psychological trauma and PTSD (pp. 192-238). New York, NY: Guilford Press.
94. Worchel S. (1999). Written in blood: Ethnic identity and the struggle for human harmony. New York: Worth.
2. Постникова М.И. Концептуальная модель межпоколенных отношений в современном российском обществе // Мир науки, культуры и образования. – 2010. – №2. – С. 78-82.
3. Пронина Е.Е. Психологическая экспертиза рекламного текста. М., 2000.
4. Abric J-C. (2001). Representations of the Social: Bridging Theoretical Traditions. Oxford: Blackwell Publishers.
5. Ahonen S. (1998). Historiaton sukupolvi? Historian vastaanotto ja historiallisen identiteetin rakentuminen 1990-luvun nuorison keskuudessa [The noǦhistory generation? The reception of history and the construction of historical identity by young people in the 1990s]. Helsinki, Finland: Suomen Historiallinen Seura [Finnish Historical Society].
6. Ashmore R.D., Jussim L., Wilder D. (Eds.) (2001). Social identity, intergroup conflict, and conflict reduction. Oxford: Oxford University Press.
7. Baker K. G., Gippenreiter J. B. (1996). The effects of Stalin's purge on three generations of Russian families. Family Systems, 3, 5-35.
8. Bar-Tal D. (1990). Causes and consequences of delegitimization: Models of conflict and ethnocentrism. Journal of Social Issues, 46 (1), 65-81.
9. Bar-Tal D. (2000). Shared beliefs in a society: Social psychological analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.
10. Bar-Tal D., Chernyak-Hai L., Schori N., Gundar A. (2009). A sense of self-perceived collective victimhood in intractable conflicts. International Red Cross Review, 91, 229-277.
11. Bar-Tal D., Geva N. (1986). A cognitive basis of international conflicts. In S. Worchel & W. B. Austin (Eds.). Psychology of intergroup relations (pp. 118-133). Chicago: Nelson-Hall.
12. Bauer M., Gaskell G. (1999). Towards a Paradigm for Research on Social Representations. Journal for the Theory of Social Behaviour, 29(2), 163-186.
13. Baumeister R. F., Bratslavsky E., Finkenauer C., Vohs K. D. (2001). Bad Is Stronger Than Good. Review of General Psychology, 5, 323-370.
14. Baumeister R. F., Gastings S. (1997). Distortions of collective memory: How groups flatter and deceive themselves. In J. W. Pennebaker, D. Paez, & B. Rimé (Eds.), Collective memory of political events: Social psychological perspectives (pp. 277-293). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
15. Belleli G., Amatulli M. A. C. (1997). Nostalgia, Immigration and Collective Memory. In J. W. Pennebaker, D. Páez, & B. Rimé (Eds.), Collective memory of political events: Social psychological perspectives (pp. 209-220). Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.
16. Bowlby J. (1973). Attachment and loss: Vol. 2. Separation, anxiety and anger. New York, NY: Basic Books.
17. Cairns E., Roe M. D. (Ed.). (2003). The role of memory in ethnic conflict. New York: Palgrave Macmillan.
18. Candau J. (2005). Anthropologie de la mémoire. Paris: Armand Colin.
19. Carmil D., Breznitz S. (1991). Personal trauma and world view: Are extremely stressful experiences related to political attitudes, religion beliefs, and future orientation? Journal of Traumatic Stress, 4, 393-405.
20. Cash J. D. (1996). Identity, ideology and conflict: The structuration of politics in Northern Ireland. Cambridge: Cambridge University Press.
21. Cassel L., Suedfeld P. (2006). Salutogenesis and autobiographical disclosure among Holocaust survivors. Journal of Positive Psychology, 1, 212-225.
22. Cohen M., Brom D., Dasberg H. (2001). Child survivors of the Holocaust: Symptoms and coping after fifty years. Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences, 38, 3-12.
23. Cohrs J., C., Moschner B., Maes J. Kielman S. (2005). The motivational basis of right-wing authoritarianism and social dominance orientation: Relations to values and attitudes in the aftermath of September 11, 2001. Personality and Social Psychology Bulletin, 31, 1425-1434
24. Connerton P. (1989). How societies remember. New York: Cambridge University Press.
25. Conrad S. (2003). Entangled memories: Versions of the past in Germany and Japan. Journal of Contemporary History, 38(1), 85-99.
26. Devine-Wright P. (2003). A theoretical overview of memory and conflicts. In E. Cairns & M. D. Roe (Eds.). The role of memory in ethnic conflict (pp. 9-34). New York, NY: Palgrave Macmillan.
27. Doosje B., Branscombe N. R., Spears R., Manstead A. S. R. (1998). Guilty by association: When one's group has a negative history. Journal of Personality and Social Psychology, 75, 872-886.
28. Dresler-Hawke E. (2000). Reconstructing the past: Perceptions of the Holocaust and positioning of German national identity. Unpublished Doctoral thesis, Victoria University of Wellington, New Zealand.
29. Etkind A. (2013). Warped Mourning. Stories of the Undead in the Land of the Unburied. Stanford, CA:Stanford University Press
30. Ferren P. M. (1999). Comparing perceived self-efficacy among adolescent Bosnian and Croatian refugees with and without posttraumatic stress disorder. Journal of Traumatic Stress, 12, 405-420.
31. Fletcher K. E. (1996). Childhood posttraumatic stress disorder. In E. J. Mash & R. A. Barkley (Eds.). Child psychopathology (pp. 242-276). New York, NY: Guilford.
32. Halbwachs M. (1950/1980). The collective memory. New York: Harper & Row.
33. Halbwachs M. (1992). On collective memory. Chicago: University of Chicago Press.
34. Hein L., Selden M. (Eds.). (2000). Censoring history: Citizenship and memory in Japan, Germany, and the United States. Armonk, NY: An East Gate Book.
35. Hobsbawm E., Ranger T. (1983). The invention of tradition. Cambridge: Cambridge University Press.
36. Hofstede G. (2001). Culture's consequences: Comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations. Thousand Oaks, CA: Sage.
37. Horwath J (2007). Child Neglect: Identification and Assessment, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan
38. Howe N., Strauss W. (1991). Generations: The history of America's future, 1584 to 2069. N.Y.: William Morrow & Company.
39. Huang L. L., Liu J. H., Chang M. (2004). The "double identity" of Taiwanese Chinese: A dilemma of politics and culture rooted in history. Asian Journal of Psychology, 7(2), 149-189.
40. Inglehart R., Basañez M., Diez-Medrano J., Halman L. Luijkx R. (2004). Human beliefs and values. Mexico: Siglo XXI.
41. Janoff-Bulman R., Frieze I. H. (1983). A theoretical perspective for understanding reactions to victimization. Journal of Social Issues, 39(2), 1-17.
42. Jodelet D. (1989). Représentations sociales: un domain en expansion. In: Les Représentations Sociales. (pp. 31-61). Paris: Presses Universitaires de France.
43. Kadushin A. (1976). Adopting older children: Summary and implications. In A. M. Clarke & A. D. B. Clarke (Eds.). Early experience: Myth and evidence (pp.). New York, NY: Free Press.
44. Kawachi I., Berkman L. (2000). Social ties and mental health. Journal of Urban Health, 78, 458-467.
45. Keilson H. (1992). Sequential traumatization in children: A clinical and statistical follow-up study on the fate of the Jewish war orphans in the Netherlands. Jerusalem, Israel: Manges Press.
46. Kellermann N. P. F. (2001). The long-term psychological effects and treatment of Holocaust trauma. Journal of Loss and Trauma, 6, 197-218.
47. Kennedy P. M. (1987). The rise and fall of the great powers. New York: Random House.
48. Lau I. Y. M., Chiu C. Y., Lee S. L. (2001). Communication and shared reality: Implications for the psychological foundations of culture. Social Cognition, 19(3), 350-371.
49. Licata L., Klein O. (2010). Holocaust or benevolent paternalism? Intergenerational comparisons on collective memories and emotions about Belgium's colonial past. International Journal of Conflict and Violence, 4, 45-57
50. Liu J. H. (1999). Social representations of history: Preliminary notes on content and consequences around the Pacific Rim. International Journal of Intercultural Relations, 23, 215-236.
51. Liu J. H. (2013). Narratives and Social Memory from the Perspective of Social Representations of History In R. Cabecinhas, L. Abadia (Eds.). Narratives and social memory: theoretical and methodological approaches (pp. 11-24). Braga, Portugal: CECS – Communication and Society Research Centre, University of Minho.
52. Liu J. H., Hilton D. (2005). How the past weighs on the present: Social representations of history and their role in identity politics. British Journal of Social Psychology, 44, 537-556.
53. Liu J. H., Lawrence B., Ward C., Abraham S. (2002). Social representations of history in Malaysia and Singapore: On the relationship between national and ethnic identity. Asian Journal of Social Psychology, 5(1), 3-20.
54. Liu J. H., Páez D., Hanke K., Rosa A., Hilton D., Sibley C. (2011). Cross-Cultural Dimensions of Meaning in the Evaluation of Events in World History? Perceptions of Historical Calamities and Progress in Cross-Cultural Data From Thirty Societies. Journal of Cross-Cultural Psychology, 43 (2), 251-272.
55. Liu J. H., Wilson M. W., McClure J., Higgins T. R. (1999). Social identity and the perception of history: Cultural representations of Aotearoa/New Zealand. European Journal of Social Psychology, 29, 1021-1047.
56. Lomranz J. (1995). Endurance and living: Long-term effects of the Holocaust. In S. E. Hobfoll & M. W. de Vries (Eds.). Extreme stress and communities: Impact and intervention (pp. 325-352). Dordrecht, the Netherlands: Kluwer.
57. Lomsky-Feder E. (2004). Life stories, war and veterans: On the social distribution of memories. Ethnos, 32, 82-109.
58. Mack J., E. (1990). The psychodynamics of victimization among national groups in conflict. In V. D. Volkan, D. A. Julius, & J. V. Montville (Eds.). The psychodynamics of international relationships (pp. 119-129). Lexington, MA: Lexington Books
59. Malinowski B. (1926). Myth in primitive psychology. London: Kegan Paul, Trench, Trubner.
60. Moscovici S. (1973). Foreword In C. Herzlich (Ed.). Health and Illness. A Social Psychological Analysis (pp. Xiii). London: Academic Press.
61. Moscovici S. (1983). L'age des foules. Un traité historique de psychologie des masses. Brussels: Éditions Complexe.
62. Moscovici S. (1984). The phenomenon of social representations. In R. M. Farr & S. Moscovici (Eds.). Social representations (pp. 3-70). Cambridge: Cambridge University Press.
63. Moscovici S. (1988). Notes towards a description of social representations. European Journal of Social Psychology, 18, 211-250.
64. Moscovici S. (2000). Social Representations. Explorations in Social Psychology. Cambridge, UK: Polity Press.
65. Myers J. K., Weissman M. M., Tischler G. L., Holzer C. E., Leaf P. J., Orvaschel H., Anthony J. C., Boyd J. H., Burke J. D., Kramer M. (1984). Six-month prevalence of psychiatric disorders in three communities 1980-1982. Archives of General Psychiatry, 41, 959-967.
66. Nadler A., Ben-Shushan, D. (1989). Forty Years Later: Long-term Consequences of Massive Traumatization as Manifested by Holocaust Survivors from the City and the Kibbutz. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 57, 287-293.
67. Nelson C. A., Zeanah C. H., Fox N. A., Marshall P. J., Smyke A. T., Guthrie D. (2007). Cognitive recovery in socially deprived young children: The Bucharest Early Intervention Project. Science, 318, 1937-1940.
68. Nolen-Hoeksema S. (1990). Sex differences in depression. Stanford, CA: Stanford University Press.
69. Norris F. H., Friedman M. J., Watson P. J., Byrne C. M., Diaz E., Kaniasty K. (2002). 60,000 disaster victims speak: Part 1. An empirical review of the empirical literature, 1981-2001. Psychiatry, 65, 207-239.
70. Oren N., Bar-Tal D. (2006). Ethos and identity: Expressions and changes in the Israeli Jewish society. Estudios de Psicología, 27, 293-316.
71. Oren N., Bar-Tal D., David O. (2004). Conflict, identity and ethos: The Israeli-Palestinian case. In Y-T. Lee, C. R. McCauley, F. M. Moghaddam, S. Worchel (Ed.). Psychology of ethnic and cultural conflict (pp. 133-154). Westport, CT: Praeger.
72. Páez D., Bobowik M., de Guissmé L., Liu J. H., Licata L. (2015). Collective Memory and Social Representations of History. Unpublished extended English version of chapter Mémoire collective et representations sociales de l'Histoire. In G. Monaco, S. Delouvée, & P. Rateau (Eds.). Les représentations sociales. Théories, méthodes et applications (pp. xx-yy). Bruxelles: De Boeck.
73. Páez D., Liu J., Techio E., Slawuta P., Zlobina A. Cabecinhas R. (2008). Remembering World War II and willigness to fight: Sociocultural factors in the social representation of historical warfare across 22 societies. Journal of Cross Cultural Psychology, 39(4), 373-401.
74. Pennebaker J. W., Páez D., Deschamps J. C. (2006). The social psychology of history. Psicología Política, 32, 15-32.
75. Pennebaker J. W., Paez D., Rime B. (1997). Collective memory of political events. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
76. Robinson S., Hemmendinger J., Netanel R., Rapaport M., Zilberman L., Gal A. (1994). Retraumatization of Holocaust survivors during the Gulf war and SCUD missile attacks on Israel. British Journal of Medical Psychology, 67, 353-362.
77. Ross M. H. (1993). The culture of conflict: Interpretation and interests in comparative perspective. New Haven, CT: Yale University Press.
78. Ross M. H. (2001). Psychocultural interpretations and dramas: Identity dynamics in ethnic conflict. Political Psychology, 22, 157-198.
79. Rousseau C., Drapeau A., Rahimi S. (2003). The complexity of trauma response: A 4-year follow-up of adolescent Cambodian refugees. Child Abuse and Neglect, 27, 1277-1290.
80. Routledge C., Arndt J., Sedikides C., Wildschut T. (2008). A blast from the past: The terror management function of nostalgia. Journal of Experimental Social Psychology, 44, 132-140.
81. Routledge C., Arndt J., Wildschut T., Sedikides C., Hart C., Vingerhoets J., Juhl J., Schlotz W. (2011). The past makes the present meaningful: Nostalgia as an existential resource. Journal of Personality and Social Psychology, 3, 638-652.
82. Shanan J., Shahar O. (1983). Cognitive and personality functioning of Jewish Holocaust survivors during the midlife transition (46-65) in Israel. Archiv fur Psychologie, 135, 275-294.
83. Sidanius J. Pratto F. (2001). Social dominance: An intergroup theory of social hierarchy and oppression. Cambridge: Cambridge University Press.
84. Sigal J. J., Weinfeld M. (2001). Do children cope better than adults with potentially traumatic stress? A 40-year follow-up of Holocaust survivors. Psychiatry, 64, 69-80.
85. Smeekes A. (2015). National nostalgia: A group-based emotion that benefits the in-group but hampers intergroup relations. International Journal of Intercultural Relations, 49, 54-67.
86. Smeekes A., Verkuyten M. (2015). The presence of the past: Identity continuity and group dynamics. European Review of Social Psychology, 26, 162-202.
87. Tajfel H., Turner J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. In W. G. Austin, S. Worchel (Eds.). The social psychology of intergroup relations (pp. 33-37). Monterey, CA: Brooks/Cole.
88. Taylor S., Klein L., Lewis, B. (2000). Biobehavioral responses to stress in females: Tend-and-befriend, not fight-or-flight. Psychological Review, 107, 411-429.
89. Vergès P. (1992). Bulletin de psychologie. [Bulletin of psychology] XLV, 405, 203-209.
90. Volkan V. (1997). Blood lines: From ethnic pride toethnic terrorism. New York, NY: Farrar, Straus &Giroux.
91. Ward C., Bochner S., Furnham A. (2001). The psychology of culture shock. East Sussex, UK: Routledge.
92. Wertsch J. (2002). Voices of Collective Remembering. Cambridge University Press.
93. Wolfe J., Kimerling R. (1997). Gender issues in the assessment of posttraumatic stress disorder. In Wilson J. & Keane T. (Eds.). Assessing psychological trauma and PTSD (pp. 192-238). New York, NY: Guilford Press.
94. Worchel S. (1999). Written in blood: Ethnic identity and the struggle for human harmony. New York: Worth.